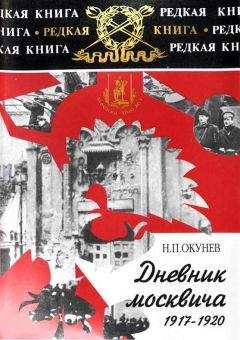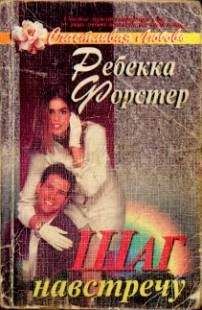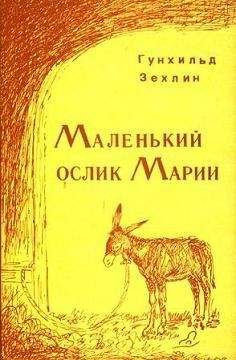Сергей Трубецкой - Минувшее
Так рассуждали крестьяне, а вот как действовали новые законные органы власти на местах. Когда были назначены у нас земские выборы на основании «всеобщего, прямого, равного и тайного голосования», к избирательным урнам в Бегичеве не были допущены не толькомы,помещики, но даже служащие. Как объяснили в комитете, организовавшем выборы, допустить их к урнам было бы «недемократично»... Так толковались на местах лозунги и законы Временного правительства.
В начале «великой, бескровной» (какой иронией звучат эти эпитеты!) в тамбовском имении Новосильцевых, Кочемирове, какие-то пришедшие со стороны революционеры снимали с работы служащих и рабочих экономии и даже мужскую (почему-то только мужскую!) прислугу господского дома. В своей (стоит ли говорить? — бесплодной) жалобе по этому поводу судебному следователю тетя Машенька Новосильцева писала буквально следующее:
«Дело дошло до того,что нам за столом подавала женская прислуга...»
Бедная тетя Машенька! Дело скоро дошло догораздохудшего и, между прочим, скоро ей самой пришлось спасать жизнь своего мужа, дяди Юрия, от толпы сбитых с толку нафанатизированных крестьян.
Да, дело шло все дальше и дальше — все на фронте и внутри страны катилось в пропасть.
Наконец мы вырвались из Бегичева и поехали в Москву. Я чувствовал, что прощаюсь с Бегичевым очень надолго, если не навсегда, и все же мне не только хотелось поскорее уехать из него, но даже и глядеть на него в последние дни перед разлукой совсем не хотелось. В последний раз я уезжал из Бегичева и даже не проехал верхом по нашим полям и лесам, не обошел парка, усадьбы и «экономии»...
В последний раз нам подали к подъезду экипаж. Помолившись, как всегда перед отъездом, мы сели в него, и как сейчас помню: Мама широким крестом осенила покидаемый ею навеки дом... Из боязни кощунства, мы не знали, оставлять ли в комнатах иконы, и Мама велела их убрать, но перед самым отъездом она вдруг повесила на стене спальни икону «Нерушимая стена» из Софийского собора в Киеве... Так она там и осталась.
Вряд ли кто-нибудь из нас увидит Бегичево, знаю только, что таким, каким оно было, никто никогда увидать его не может.
Не знаю, по правде, хочется или не хочется мне туда вернуться? Порой меня туда так тянет, но иной раз сама мысль о возвращении в разоренное, опоганенное гнездо кажется мне нестерпимо мучительной.
МОСКВА
Приехав в Москву, я почувствовал, что тяжелый камень свалился с моей души. Немало оставалось на ней тяжелого, но атмосфера была иная, чем в имения.
В Москве мне пришлось, судя объективно, пережить куда более тяжелые времена, чем дни в Бегичеве, но, как я уже говорил, переживать их мне было легче.
Я знал ряд помещиков, до последней возможности цеплявшихся за свои родные гнезда и изгнанных оттуда порой прямым насилием. Если бы я сам не побывал в революционное время в Бегичеве — я, вероятно, лучше понял бы их чувства и привязанность до конца к их гибнущим усадьбам, но ощутив бегичевскую атмосферу времен керенщины, несмотря на то, что ничего трагического при мне не случилось, я, признаюсь, понимаю их гораздо хуже. Помню, как мы в Москве объединялись в этом чувстве с моим двоюродным братом Юрком Новосильцевым.
В Москве я встретил О. П. Герасимова, который только что вступил членом правления в «Земгорский» артиллерийский завод «Земгаубица» в Подольске. Меня тоже звали туда на схожее место.
Нельзя сказать, чтобы должность эта, и особенно в такие времена, меня очень привлекала, но с одной стороны — ничего другого, более подходящего, мне не представлялось, а с другой — я продолжал держаться принципа, проповедуемого дядей Гришей Трубецким: «не сдавать никаких позиций». Кроме того, состав правления «Земгаубицы» был приятный. Не строя иллюзий в отношении длительности моей службы — при Временном правительстве все было «временным»,— я сделался членом правления «Земгаубицы». Действительно, работа моя в правлении была очень кратковременна. Хотя мы — правление — и были представителями не «капиталистов», а общественной организации, все же через месяц-другой рабочий комитет завода выразил нам «недоверие» (в частности «товарищам-князьям, которые никогда товарищами нам не будут») и нам-таки пришлось «сдать позиции» революционному пролетариату. Плетью обуха не перешибешь!
Когда я был, правда мирно, но все же выперт из правления завода, Всероссийский Земский Союз, представителем которого я там являлся, назначил меня уполномоченным в финансовый отдел Главного Комитета, где я и пробыл до самого захвата ВЗС большевиками. Кстати, когда последние пришли захватывать кассу Союза, где было тогда, если не ошибаюсь, миллиона два рублей, два большевика-интеллигента из состава служащих ВЗС очень настаивали, чтобы деньги из нашей кассы в кассу Совета рабочих депутатов были бы перевезены непременно в присутствии моего двоюродного брата гр. Юрия Олсуфьева и моем (мы оба состояли в финансовом отделе, заведовал которым Олсуфьев). Наши «зембольшевики» явно боялись того, что деньги иначе пропадут дорогой. Конечно, мы оба решительно отказались принимать участие в переносе насильственно забранных в нашей кассе денег. Выдать их мы были принуждены, «подчиняясь силе», но я должен сказать, что с нами при этом обошлись не грубо и даже (к нашему удивлению!) выдали по нашему требованию расписку в принятой сумме.
В Москве наша семья поселилась в доме моей тети, Софьи Александровны Петрово-Соловово (сестры моей матери) на Новинском бульваре, № 111, почти ровно напротив гагаринского дома. Постепенно обе наши семьи — Трубецкие и Соловые — собрались там полностью. Брат Саша должен был, как и многие хорошие офицеры, уйти из своего полка (лейб-гв. Конно-Гренадерского), где его положение после революции постепенно сделалось совершенно невыносимым. Он стремился снова попасть в армию, подумывая о казачьих частях, о которых говорили, что они менее разложены революционным духом, чем другие части. Папа был по этому поводу в переписке с Донским атаманом Калединым, с которым он был лично знаком. Помню длинное собственноручное письмо последнего, поразившее меня своим общим безнадежным пессимизмом. В частности, о Саше, Каледин говорил, что хорошие офицеры ему очень нужны, но при нынешнем настроении казаков, не-казачьих офицеров он использовать никак не может... Выражались надежды на будущее, но было ясно, что сам Каледин уже терял — или даже потерял — всякую надежду на спасение казачества и России. Когда я позднее узнал о самоубийстве Каледина, я вспомнил это письмо.
В ту пору мы в Москве еще были склонны строить иллюзии в отношении казачества, и я помню, какое грустное и отрезвляющее впечатление произвело тогда на меня письмо покойного и твердого Каледина на фоне этих московских «казачьих надежд».