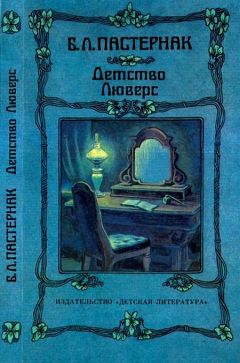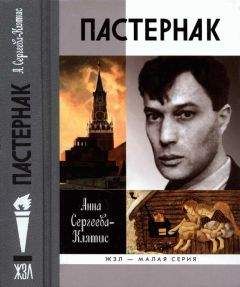Воспоминания. Письма - Пастернак Зинаида Николаевна
Твой Боря
17. VIII.41
Дорогая моя мамочка, золотая, горячая, красивая, десять лет, как мы вместе и я люблю тебя больше всего на свете, твои глаза, твой нрав, твою быстроту и ничего не боящуюся грубую и жаркую работу, кровно родную мне по честности и простоте, твой врожденный, невычитанный талант, наполняющий тебя с головы до ног, мой милый ангел. Как часто обстоятельства, чужие слова и встречи, особые мгновенья в природе, запахи травы и леса или мелочи жизни напоминают тебя в Трубниковском, или в Киеве, или в Коджорах. Это лучшие мои воспоминанья, такие золотые, что они не оставили меня еще и не стали прошлым, это те сцены и страницы жизни, чистой, звонкой, несравненной, ради которых я жил и живу все остальное время до них и ради них. Или вдруг наедет народ, Шура с Ириной и Гаррик с Милицей, и Рихтер [252] сыграет этюд или 4-е скерцо, те самые, которые ты играла по возвращении с Кавказа, и все с такой грустной, вновь облагороженной живостью встанет передо мной, что меня ослепит тоска, и так захочется, чтобы все было тобою и ничего чужого не было, и чтобы мне не мешали знать и помнить тебя и быть занятым только тобою. Милый ангел, целую тебя, вспоминаешь ли ты меня? Это первый раз, что я по-настоящему пишу тебе; Конст<антин> Григ<орьевич> [253] не безразличный человек для меня: мне не страшно того, что я отдаю в его руки.
Во всех же прежних случаях (а я писал тебе много и часто) мне было стыдно глаз цензуры или какой-ниб<удь> другой случайности и я ограничивался деловым перечислением фактов. Итак, о них. Адику стало в последнее время несравненно лучше, он весел, ест за троих, поправляется, пишет тебе (наверное, с полуторамесячным опозданием ты получаешь его письма). У него не только не было горечи против обстоятельств твоего отъезда, но, наоборот, он удивлялся, как ты и я, хотя бы в мыслях, готовы были отправить Ленюсю без тебя со Стасиком, кот<орый>, по его шутливым словам, меньше Лени. Их, как я тебе писал и телеграфировал, хотели перевезти в Плес на Волге, когда немцы продвинулись вперед и началась бомбардировка Москвы. Но потом немцев остановили, бомбардировка ограничивается почти одной Москвой, не затрагивая окрестностей, и санаторий до сих пор в Балашихе. Теперь, когда я пишу тебе, нем<ецкое> наступленье возобновилось. Взят Смоленск, будущее темно и тревожно.
Людям с именами, орденами и возрастом предлагают выезжать с семьями. Может быть, если он добьется удобных условий переезда, Гаррик заберет Адика себе и с ним всем домом отправится на Кавказ. Без Адика он, конечно, не уедет. Неожиданно, не простившись и без моего ведома собрались и уехали в Ташкент Женя с Женей-мальчиком. Если мы с Конст. Фединым и К.Г. Паустовским останемся в Москве, а не эвакуируемся в ваши края, мы будем жить в квартире на Тв<ерском> бульваре. Там целы окна, Ел<ена> Петровна (работница) хорошая хозяйка, а в случае обвала во время налета из-под двух этажей мусора легче что-ниб<удь> извлечь, чем из-под девяти. В последний раз, когда я с 11-го на 12-е дежурил в Лаврушинском на крыше, на моих глазах в дом попали две фугасные бомбы. Одною разрушило 4 квартиры в 1-м подъезде, в том числе Паустовских, другая попала в красный кирпичный дом налево, разрушив четверть его до основания: было пять убитых и 8 человек раненых. Еще раньше во всех квартирах выбиты стекла до одного. Меня торопят, Паустовский уезжает в город и оттуда к вам. Посылаю тебе сколько могу, 400 руб. денег, – своих. Вскоре что-ниб<удь>, м<ожет> б<ыть>, будет от Гаррика. Месяц тому назад такая же сумма (среди них 300 р. от Г.) послана была тебе в Берсут по почте. Хотя угроза наступленья возобновилась, я только недавно наладил работу. Как ни смертельно тоскую я по вас троих, особенно по тебе, мне не хочется уезжать и как-то неудобно и страшно отрываться от событий. Мне кажется, так можно лишить себя доли будущего, если останешься жить. Впрочем, все это выяснится само собой. Обрываю письмо на полуслове. Можешь довериться Конс<тантину> Григ<орьеви>чу; он отличный человек и замечательный писатель.
Целую. Найди способ написать мне с оказией. Получила ли ты теплое старье, что я послал тебе. Прощай милая, милая, милая. Обнимаю Леничку и Стасика.
<После 17 августа 1941>
Дорогая тютенька, как я по тебе соскучился! Спасибо тебе за большое обстоятельное письмо, первое из Берсута, это когда гроза была и хворал Леничка. Как ты живо и дельно пишешь, умная и родная моя! От тебя была телеграмма; услужливая и преданная тетя Наташа (лифтерша) решила не ограничиться «отпуском» телеграммы в почт<овый> ящик и передала Халтурину (мужу Веры Вас. Смирновой). Когда я был в городе, он был на службе. Потом еще раз по моему поручению спрашивали. Оказалось, они кому-то телегр<амму> передали для врученья мне на даче. Так я по сей день ее и видел! Я просто рву и мечу; как важно и дорого было бы для меня все знать, что тебе надо. И еще в телеграмме! Одна надежда, мамочка, что переданное с Паустовским письмо и 400 р. денег тебя достигли. Вот еще тебе 400 р. с этим письмом, которое повезет Р.М. Беленькая. Это опять только от меня (не от Гаррика). Вчера получил очень теплое, разумное и интересное письмо от Адика. Ты ведь уже знаешь об улучшеньи его здоровья.
Тебя, наверное, приводило и снова приведет в раздраженье содержание (состав) моих посылок. Все наполовину ненужное тебе, наверное, старье. Но что же мне делать, если до сих пор у меня решительно не было денег! Все это не случайно и разрешится к лучшему. Я опять стал зарабатывать лишь в самое последнее время. Статью для Вокса приняли, я пишу им другую (хотя только по 200 р.). Написал несколько новых стихов для Крас<ной> нови взамен тех, довоенных. Хочу писать пьесу [254] и вчера подал заявку об этом в Комитет по делам искусств. Меня раздражает все еще сохраняющийся идиотский трафарет в литературе, делах печати, цензуре и т. д. Нельзя после того, как люди нюхнули пороху и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и пр. и пр., выдерживать их на той же глупой, безотрадной и обязательной малосодержательности, которая не только на руку власти, но и по душе самим пишущим, людям в большинстве неталантливым и творчески слабосильным, с ничтожными аппетитами, даже и не подозревавшим о вкусе бессмертия и удовлетворяющимся бутербродами, зисами и эмками и тартинками с двумя орденами. И это – биография! И для этого люди рождались, росли и жили. Ты помнишь, какое у меня было настроенье перед войною, как мне хотелось делать все сразу и выражать всего себя, до самых глубин. Теперь это удесятерилось. Я со многими перессорился, с Маршаком, с Погодиным, множеством мелюзги и обидел, кажется, Гаррика и Мил<ицу> Сер<геевну>. Они мне страшно мешали своим праздным видом и своей дачной типичностью: праздный интеллигентский зудеж, неуменье толком убрать за собой, круглодневное чтение книжек, задрав ноги в гамаках и пр. и пр. А я не ангел, во мне целый ад сидит, мне некогда, для меня мерило – способность человека к самому простому и черному на свете, это я упаковываю, зашиваю и на своем горбу ношу тебе свои посылки. Вот с кем у меня неразрывный роман и дружба, это с переделкинскими соседями, почти со всеми (за малыми исключениями), главным же образом с Конст<антином> Александровичем. С ним и с Леоновым втроем, а может быть, еще и Корн<еем> Ив<ановичем> Чуковским мы очень хотим съездить недели на две к вам в Чистополь – Берсут и потом вернуться в Москву, если будет куда вернуться, или принять эвакуированный из Москвы Союз писателей в свои чистопольские объятья на месте, если возвращаться будет некуда и поздно. Это так здраво и просто, что я прямо в такой форме и ставлю вопрос перед Союзом писателей, который должен нам дать свои бумажки для полученья билетов и удобств переезда и поселенья у цели путешествия. Но представь, пока что Союз нам во всем этом отказывает, потому что надо ломать (вместо настоящего серьезного патриотизма и серьезности жизни) какую-то детскую патриотическую комедию, для которой требуется наше, и в особенности Кости Федина, присутствие в Москве. Я все же думаю, что в конце концов нас отпустят. Ничего так не жажду, ни о чем так не мечтаю, как обнять глупого, угрюмого мизантропа, моего Ленчика, увидеть Стасика и расплакаться перед тобою, золотая моя дуся и работница, горячая моя дуся, хотя ты не засуживаешь моей нежности, нелюбящая ты сволочь. Леонов почти рехнулся от тоски по своим, он плачет, молится богу, мы с Костей каждый день его успокаиваем, у него что-то вроде моей бессонницы 1935 года.