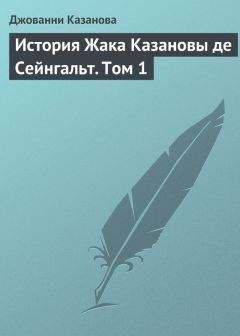Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 6
— Вы, значит, не думаете, — спросил я, — что память составляет значительную часть души?
Мудрец вынужден был тут слукавить, потому что у него были основания не подвергать сомнению свою правоверность. Я спросил у него за столом, часто ли приходит к нему с визитами г-н де Вольтер. Он с улыбкой привел мне слова великого поэта разума: Vetabo qui Cereris sacrum vulgarit arcanœ sub iisdem sil trabibus[31].
После этого ответа я не говорил с ним больше о религии во все три дня моего пребывания у него. Когда я сказал ему, что для меня будет праздником познакомиться со знаменитым Вольтером, он ответил мне без малейшей досады, что это человек, с которым я совершенно справедливо должен желать познакомиться, но что многие находят его, вопреки законам физики, более великим издали, чем вблизи[32].
Я нашел стол г-на Галлера очень изобильным, но его самого — весьма умеренным. Он пил только воду, и маленький стаканчик ликера на десерт, разбавленного большим стаканом воды. Он много говорил со мной о Бохераве, у которого был любимым учеником. Он сказал мне, что после Гиппократа Бохераве был самым великим из врачей, и более значительным химиком, чем тот и чем все последующие после него.
— Как же он не смог получить аттестат зрелости?
— Потому что contra vint mortis nullum est medicamen in hortis[33]; но если бы Бохераве не рожден был быть врачом, он умер бы до достижения четырнадцати лет от злокачественной язвы, которую не мог вылечить ни один врач. Он вылечился, натирая себя своей собственной уриной, в которой он разводил поваренную соль.
— Мадам мне сказала, что он владел философским камнем.
— Так говорят, но я этому не верю.
— Верите ли вы, что его можно изготовить?
— Я работал тридцать лет и нашел это невозможным, но не могу сказать это убежденно. Нельзя быть хорошим химиком и не признавать физической возможности превращения металлов в золото.
Когда я откланивался, он просил меня написать ему о моем впечатлении от великого Вольтера, и это послужило началом нашей переписки на французском. У меня есть двадцать два письма этого человека ко мне, из которых последнее датировано шестью месяцами до его преждевременной смерти. Чем больше я старею, тем более беспокоюсь о моих бумагах. Это настоящее сокровище, которое привязывает меня к жизни и заставляет ненавидеть смерть.
Я прочел в Берне «Элоизу» Ж.-Ж. Руссо и хотел услышать, что скажет о ней г-н Галлер. Он сказал, что того немногого, что он прочел из этого романа, чтобы удовлетворить своего друга, ему было достаточно, чтобы судить обо всей вещи.
— Это, — сказал он, — самый плохой из всех романов, потому что самый многозначительный. Вы увидите кантон Во. Это прекрасная страна, но не рассчитывайте увидеть там оригиналы блестящих портретов, которые представляет вам Руссо. Руссо счел, что в романе ему позволено лгать. Ваш Петрарка не лгал. У меня есть его произведения, написанные на латыни, которую никто теперь не читает, по той причине, что его латынь не безупречна, и они ошибаются. Петрарка был ученый, но при этом обманщик в описании своей любви к благородной Лауре, которую любил вполне так, как мужчина любит женщину. Если бы Лаура не дала Петрарке счастья, он бы ее не прославил.
Так г-н Галлер говорил о Петрарке, перепрыгнув от разговора о Руссо, которого не любил за его приемы красноречия, блеск которых относил за счет использования антитез и парадоксов. Этот большой швейцарец был ученый из первого ряда, но он этим не кичился ни у себя в семье, ни когда находился в обществе людей, которых не увлекали научные рассуждения. Он был доступен для всех, был любезен и приветлив. Но что было у него такого, чтобы нравиться всем? Я не знаю. Легче сказать, чего у него не было, чем что было. У него не было никаких недостатков, свойственных людям, которых называют людьми ума и учеными.
Его добродетели были суровыми, но он очень остерегался проявлять суровость. Он, разумеется, избегал невежд, которые, вместо того, чтобы держаться в рамках, которые предписывает им их невежество, желают судить обо всем вкривь и вкось и пытаются даже подвергать насмешке тех, кто что-то знает, но свое недовольство не проявлял. Он слишком хорошо знал, что невежды ненавидят пренебрежение, и не хотел вызывать ненависть. Г-н Галлер был ученый, который не хотел, чтобы догадывались о его уме, и не выставлял его на обозрение, он не хотел рисковать своей репутацией; он хорошо поддерживал разговор и говорил мудрые вещи, не мешая другим в компании тоже говорить. Он никогда не говорил о своих работах, и когда о них заходила речь, он уводил разговор в сторону; когда встречалось мнение, отличное от своего, он возражал, только неохотно.
Едва прибыв в Лозанну и решив сохранить инкогнито хотя бы на один день, я, естественно, послушался своего сердца. Я отправился повидать Дюбуа, не имея необходимости никого расспрашивать о том, где она живет, поскольку она подробно обрисовала мне улицы, по которым мне следовало идти, чтобы пройти к ней. Я нашел ее с ее матерью; но мое удивление было велико, когда я увидел Лебеля. Она не дала мне времени подготовить свое появление. Вскрикнув, она повисла у меня на шее, и ее мать меня приветствовала. Я спросил у Лебеля, как себя чувствует посол, и с каких пор он находится в Лозанне. Этот славный человек, приняв дружеский тон, сказал, что посол чувствует себя хорошо, что он прибыл в Лозанну утром по делам и что он пришел повидать мать Дюбуа после обеда и был очень удивлен, застав там ее дочь.
— Вы знаете, — сказал он, — каковы мои намерения; я должен уехать завтра; и когда вы определитесь, вы мне напишете, я приеду за ней и отвезу ее в Золотурн, где мы поженимся.
На это разъяснение, которое не могло быть ни более ясным, ни более приличным, я ответил, что отнюдь не выступаю против воли моей дорогой бонны, а она, в свою очередь, добавила, что решится покинуть меня, лишь если я выражу с этим свое согласие. Сочтя наши ответы слишком неопределенными, он откровенно мне сказал, что ему необходим определенный ответ, на что я сказал, с намерением совершенно отвергнуть его проект, что в течение десяти-двенадцати дней я напишу ему обо всем. Он уехал в Золотурн на следующее утро.
После его отъезда мать моей дорогой подруги, в которой здравый смысл преобладал над умом, говорила нам разумные вещи, тоном, который она сочла необходимым, чтобы просветить наши две головы, потому что влюбленные, мы не могли решиться разлучиться. Между тем, я узнал у своей бонны, что она ждала меня каждый день до полуночи, и что мы сделаем так, как я и обещал Лебелю. У нее была своя комната и очень хорошая кровать, и она накормила меня неплохим ужином. Утром мы проснулись влюбленными, но при этом решили подумать над проектом Лебеля. Был однако один небольшой вопрос.