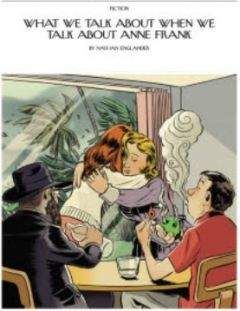Юрий Папоров - Габриель Гарсия Маркес. Путь к славе
— И то же самое происходит, видимо, с желтым цветом. Считается, что он приносит беду, измену, вообще какое-то неблагополучие. А ты носишь одежду в основном желтого цвета. Даже ботинки и пальто. И цветы приносишь в дом только желтые. Тебе желтый приносит счастье?
— Желтый, но не цвет золота! Для меня золото — синоним дерьма. Я был маленьким, когда в моем присутствии один психоаналитик сказал, что золото и счастье для нашего дома — вещи несовместные.
— А если тебе кто-нибудь подарит золотую вещицу?
— Выброшу! Или подарю кому-нибудь другому. Я очень верю в приметы.
— Например?
— Нельзя курить, если ты голый, или голым ходить в одних ботинках. Нельзя заниматься любовью в носках, ничего путного все равно не получится. Нельзя пытаться извлечь выгоду из своих физических недостатков. Ну да ладно, ты мне лучше скажи, поможешь мне завлечь кого-нибудь из итальянцев в Колумбию, чтобы заложить у нас основы национального кино?
— Об этом мы уже говорили, Габо! Пошли спать. Уже четыре утра. А ты скучаешь по Колумбии?
— Скучаю, но я и представить себе не мог, насколько богата европейская культура и какая интересная здесь жизнь.
Перед самым Рождеством Гарсия Маркес получил телеграмму от Гильермо Кано, в которой главный редактор сообщал, что газета заинтересована в получении материалов из Франции и потому спецкору надлежит переехать в Париж.
Последний материал, написанный Гарсия Маркесом в Италии, был посвящен актрисам Софии Лорен и Джине Лоллобриджиде; он назывался «Война чулок» и был опубликован в «Эспектадор» 26, 27 и 28 декабря 1955 года.
Париж, который Хемингуэй называл «праздником, который всегда с тобой», а Неруда городом, где «время летит, но Париж остается», буквально ослепил Гарсия Маркеса. Конечно, не праздничным убранством и ярким освещением. Да и ослепил, собственно, не столько сам город, сколько царивший в нем дух свободы. Особенно сильное впечатление на карибского жителя, непривычного к подобным вещам, произвели молодые пары, которые в любое время суток целовались везде где только можно: в парках, на улицах, в метро, автобусах, в кино, музеях и кафе.
Поселившись в Латинском квартале, в отеле «Фландр» на улице Кюже, Гарсия Маркес первым делом отправился в бар «Шоп Паризьен», где собирались колумбийские студенты. Там он сразу увидел Плинио Апулейо Мендосу, которого знал еще со времен учебы в Боготе на первом курсе Национального университета. Вот как вспоминает Мендоса об этой встрече: «Он уже не был похож на того веселого и живого парня, которого я когда-то знал. Теперь он чувствовал себя солидным человеком. В пальто из верблюжьей шерсти с кожаным поясом и обшлагами он пил пиво, и пена оставалась на его пышных усах. Его самоуверенный вид вынуждал меня держать дистанцию.
Он рассеянно поглядывал то на стакан, то следил за кольцами сигарного дыма, не обращая никакого внимания на колумбийских студентов, сидевших вокруг.
Он будто нехотя говорил о своей поездке в Женеву в качестве спецкора газеты „Эспектадор“ и о встрече в верхах между американцами и русскими. На нас это все не производило особенного впечатления. Но он, казалось, гордился причастностью к этому событию даже больше, чем успехом своей первой книги» (20, 13).
— «Палая листва» написана под сильным влиянием Фолкнера, — вдруг сказал какой-то студент, куривший трубку. — Принцип чередующихся монологов точно такой же, как в рассказе «Пока длилась агония».
— Какой принцип? — спросил Гарсия Маркес и удивленно поглядел на Плинио.
— Как в том эпизоде, где трое парней идут к реке.
Автор «Палой листвы» несколько смутился и произнес:
— В Колумбии мне никто об этом не говорил.
Тут освободился соседний столик, и Гарсия Маркес, сказав, что ему надо поговорить с Мендосой, пересел туда вместе с ним.
— Вы помните, Габо, где и когда мы познакомились? — спросил Плинио, когда они уселись.
— В Боготе, в кафе «Рим», в ноябре сорок седьмого. Когда нас представили, я сказал тебе: «А, доктор Мендоса. Как обстоят дела с лирической прозой?»
— Верно! Вы меня тогда предельно удивили. Я сразу понял, что вы читали мой рассказ о закате в саванне, опубликованный моим отцом, который издавал еженедельник «Сабадо» («Суббота»).
— Еще бы! Тебе тогда не исполнилось и шестнадцати. Мне было интересно его читать.
— А вам было двадцать. Вы напечатали уже два отличных рассказа. О вас говорили,' что вы худой как щепка, но самый веселый из всех своих друзей, и что у вас реакция игрока в бейсбол, и что вы будущий большой писатель. Я хорошо помню, вы были одеты пестро, как исполнитель румбы. И когда вы положили руку на задницу нашей официантки и предложили ей провести с вами ночь, а она отказалась, вы бодро заявили, что у нее в тот день была менструация. Я так хотел походить на вас, но я был совсем другим.
— Послушай, Плинио, ты мне нравишься. Карахо, давай без церемоний. Переходи на «ты» и будем дружить.
— Идет! Спасибо. А когда ты в тот раз ушел, мой друг…
— Луис Вильяр Борда.
— Да. У тебя, Габриель, потрясающая память.
— Как у каждого будущего большого писателя. Ну и что было?
— Луис сказал, что ты отличный парень, но мазохист. Я не расслышал и спросил: «Коммунист?» Луис рассмеялся и пояснил, что ты в понедельник всем в университете объявляешь, что у тебя сифилис, а в пятницу — что туберкулез, что статьи у тебя не получаются, а на самом деле все выходило прекрасно. Ты пьянствуешь, а сдавать экзамены не ходишь и частенько просыпаешься утром в борделе.
— Зато у меня есть о чем писать!
— Кстати, что ты сейчас пишешь, если не для газеты?
— Большой рассказ-памфлет о жизни людей в Сукре в конце сороковых годов. Словом, коньо, о диктатуре Рохаса Пинильи. Я вспоминаю счастливые недели каникул, которые проводил в доме родителей, и дерьмовое существование людей, которыми управляли как хотели мэр города — ставленник диктатора, его полиция, военные, судья, епископ. Название памфлета «Недобрый час». В те годы находились люди, которые расклеивали на стенах домов листовки против Рохаса Пинильи.
— И это будет интересно читателям?
— Я втисну туда рассказ о том, как обманутый муж отрубил голову Хоакину Веге, тромбонисту городского оркестра, любовнику его жены.
— Желаю тебе удачи!
Вечером в сочельник Плинио повел с собой Габриеля в дом колумбийского архитектора Эрнана Виеко и его супруги Хуаны, которые помогали как могли всем колумбийским студентам, жившим в Париже.
Хозяин дома задержал на госте внимательный взгляд совершенно желтых глаз, в глубине которых вспыхивали веселые искорки, а хозяйка дома Хуана, стриженная «под мальчика», удостоила Габриеля дружеского объятия, после чего гость устремился к большому книжному стеллажу, сооруженному из кирпичей и досок.