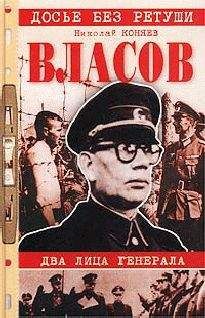Коллектив авторов Биографии и мемуары - Аракчеев: Свидетельства современников
Мелочность эта по службе была даже несносна; так, при устройстве госпиталя короля прусского полка, который должен был быть образцовым, граф сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик с чернильницею и даже какого формата должно быть перо, то есть без бородки, в виде римского calamus[394]. Хотя граф и был уверен, что его приказания исполнялись с точностью, но тем не менее хотел сам во всем удостовериться и, зайдя несколько дней спустя в палату с полковником Чевакинским, заметил на подставке для чернильницы брошенное испугавшимся фельдшером перо с бородкою; призвав к столу полковника и меня, он сделал нам замечания, а фельдшеру приказал дать пять розог.
От проницательного взгляда графа не ускользали и беспорядки в квартирах чиновников. Так, однажды, подходя к дверям квартиры смотрителя Фарафонтьева, почувствовав что-то мягкое под ногой, приказал дежурному унтер-офицеру поднять мат перед дверями и, найдя под ним сор и пыль, нахмурил брови; призвав к себе г-жу Фарафонтьеву, сделал ей род выговора в надежде, что подобных ужасных беспорядков впредь не найдет. Еще пример мелочности: как-то раз получил я, по приказанию графа, выговор от дежурного штаб-офицера за то, что мой суточный рапорт подписан был нечеткою рукою.
Вот какими мелочами занимался государственный человек, но он хотел показать, что его хватит на все, и немудрено, что граф мучился тоскою и биением сердца: более 4–5 часов он не спал. К такой же деятельности приучил он и начальника штаба, генерала Клейнмихеля, которого он иногда так обременял работами, что ему часто вовсе не удавалось ложиться спать, а, наклонившись к пюпитру, мог только вздремнуть. Чем же наградил он Петра Андреевича за такую деятельность? У графа обедали ровно в час и за несколько минут до обеда собирались все в приемную, в том числе и Клейнмихель; но каково же было его удивление, когда подошедший к нему камердинер объявил, что «для вашего превосходительства сегодня прибора нет», и сконфуженный начальник штаба принужден был послать за молоком и куском хлеба. Эту историю передал мне слуга, заведовавший назначенным для Клейнмихеля флигелем, в котором и я впоследствии останавливался.
Граф любил блеснуть и показать все в лучшем виде, обманывал посетителей, обманывал и Государя, но <неразбочиво> ухитрялся и его обмануть. Так, однажды при посещении госпиталя он сделал мне строгий выговор зато, что много лежащих, и [сказал, что] надеется, что при будущем посещении столько трудных больных не найдет. Что было делать? надобно было его обмануть, и это было нетрудно, так как граф уже после развода в манеже заходил в госпиталь. За полчаса до его прихода надобно было больных, могущих стоять, поместить на скамейках между выздоравливающими. Граф, поздоровавшись, окинул взглядом всю палату и, увидя только трех или четырех лежащих, сказал: «Благодарю, теперь у вас мало лежащих», а полковник Чевакинский, посетивший еще утром госпиталь и увидев довольно много трудных, усмехнулся при выходе графа из палаты, ибо понял, в чем дело. Но что после подобных осмотров число трудных усиливалось, граф и знать не хотел, а показать в суточных рапортах было рискованно.
К людям, в которых граф нуждался, был он необыкновенно вежлив и снисходителен, не только с инженерами, архитекторами, механиками, но и с простым мужиком-подрядчиком ходил под руку, выслушивал их советы, хотя и торговался, но все-таки предоставлял им значительные выгоды. При посещении графом только что отстроенного лесопильно-мукомольного завода на реке Волхове жаловался ему, как надобно было полагать, начальник оного инженер-майор Шахардин, любимец графа, на механика-машиниста англичанина Глина. После подробного осмотра завода приказано было Глину явиться в так называемый государев дом, выстроенный на высоком кургане, в четверти версты от завода, Глин явился, застал у графа Шахардина. Граф встретил Глина сурово, сделал ему строгое замечание, что он к начальству непочтителен и с полезными людьми ужиться не может, и грозил ему даже гауптвахтою.
— На гауптвахту не хочу, у меня в Петербурге удобная квартира, а в Лондоне дом! — отвечал Глин. — У вашего же Шахардина язык колокольчик (то есть болтун и сплетник), а голова вот что! — ударил пальцем по столу и вышел.
Граф, чувствуя, что он без Глина обойтись не может, звал его вторично к себе, извинялся, что погорячился, и просил его остаться, но гордый англичанин недолго служил и возвратился в Англию.
Из Новгорода ездил я нередко в Грузино, не оттого, чтобы граф не имел полной доверенности к состоящему при нем врачу его же имени полка Степану Петровичу Орлову, но оттого, что граф начал сомневаться в искренней к нему преданности Орлова, подозревая его в интимных сношениях с племянницею Настасьи Федоровны, Татьяною Борисовною[395], несмотря на то что Орлов имел молодую, красивую и приятную жену; но граф верил сплетням людей, не любивших Орлова за его аккуратность и строгость, как дворовым, так и крестьянам графского имения. Все эти дрязги кончились, однако же, тем, что ни в чем не виновную, скромную и тихую Татьяну Борисовну отправил в новгородский Свято-Духов монастырь, к игуменье Максимилле Петровне Шишкиной[396], будто для обучения рукоделию, а меня просил не оставить ее в случае надобности.
После же смерти графа наша пленница вышла замуж за поручика Андреева, боровичского помещика[397].
Ежели графу необходимо было остаться на несколько дней в штабе короля прусского полка, то он возил с собою и флигель-адъютанта М. Шумского, а меня просил заниматься с ним шведским разговорным языком, ибо состоящий при нем учитель шведского языка А. Вульферт возвратился в Финляндию. Какую граф имел цель, не понимаю, но полагаю, что он желал приготовить Шумского к одной из административных должностей в Финляндии. Шумский, как известно, спился, отправлен был на Кавказ и, вышедши в отставку, шлялся по новгородским монастырям, был на Валааме и в Соловецком монастыре, пробовал заняться частно в одном из новгородских присутственных мест, кажется, в казенной палате, но не мог, сделался совершеннейшим идиотом, забыл все, даже французский язык, а об других и говорить нечего. Графом назначено было ему 1200 рублей ассигнациями, и ежели бы не эта пагубная его страсть, то он все-таки мог бы кое-как существовать. Куда он впоследствии времени девался, не знаю, но, вероятно, давно уже умер. Как-то раз вечером зашел граф в госпиталь в то время, когда я занимался с Шумским. Я должен был встретить и провожать графа, но каково же было мое удивление, когда я, возвратившись, нашел Шумского пьяным, ибо, видя мой шкаф незапертым, он воспользовался случаем и выпил почти полбутылки рому. Насилу дотащил я его с денщиком на другую половину графского флигеля, приказав его раздеть и уложить; явиться же к утреннему чаю он не мог и приказал доложить графу, что, бывши вчера у меня, сильно угорел. Граф поверил, но при выезде из штаба сделал мне замечание.