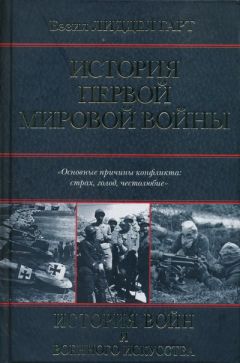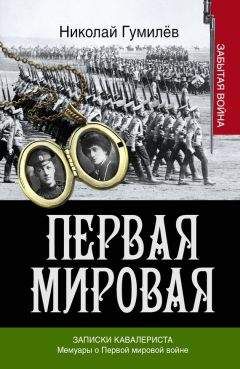Иосиф Кунин - Римския-Корсаков
В сосредоточенном труде проходит лето. Начинается осень. Торопиться из благодатной Вечаши, от ее сада, озера, благоуханного меда, от ее громадного неба и пламенных закатов было некуда. За многие годы впервые стало возможным провести сентябрь вне Петербурга. Занятия в консерватории так и не возобновились. Столица бурлила. За тишиною Вечаши угадывалась приближающаяся всероссийская буря.
Николай Андреевич еще в июне начал писать романс и бросил. Переделал в трио и наоркестровал свой старый дуэт «Горный ключ». Разумеется, нужно было писать иную музыку, и притом такую, чтобы дата, стоящая внизу рукописи — «1905 г.», — не выглядела-опиской. Предложенная чутким Вельским тема оперы о Стеньке Разине все более привлекала композитора. Казалось, в ней можно было раскрыть совсем иную, чем в «Сказании о невидимом граде», сторону народного сознания и народного творчества — бунтарскую. Записи и наброски сразу ввели в круг музыкальных образов оперы бурлацкую песню «Эй, ухнем» и раздольную «Вниз по матушке по Волге». Первая картина, действие которой должно было происходить на казачьем струге Разина под Астраханью, открывалась и завершалась, по замыслам Корсакова, заунывным могучим хором «Ты взойди, взойди, солнце красное». Опера («разбойничья песня», как ее называют в своих письмах композитор и либреттист) предполагалась небольшая, в трех картинах.
«Революционный дух вещи Вам теперь должен вполне соответствовать, — писал композитору Вельский, посылая ему сценарий первых двух картин, — в Вас теперь чувствуется постоянно что-то гораздо глубже радикальное, чем в любом обыкновенном крайнем». Скоро и наметки третьей картины оказались на руках у композитора, но не удовлетворили его. «Личность Стеньки должна быть непременно несколько идеализована и должна возбуждать симпатию… — отвечает он в начале сентября. — В общем в пьесе немножко много политики и политической экономии, а надо больше лиризма и настроения… Опера… должна промелькнуть, как сон, пронестись, как гроза или как песня, и конец. Все должно быть основано на том, что вот, мол, восстал избавитель народа от гнета… Не надо увлекаться намеками на современное положение вещей; и без того соприкосновение с ним будет ясно для всякого. Надо, чтобы восстала и пронеслась какая-то исполинская фигура среди угнетаемого народа…»
В мечтах композитора будущая опера рисовалась легендой, своего рода «сценической песней». Снова, как в «Китеже», не столько исторические события, сколько их преломление в поэтическом сознании народа, их преображение в горниле эпического творчества, привлекало его. Какую ослепительно разнообразную разработку получили бы темы народных песен, взятых в оперу! Как прошли бы они, меняя окраску «при различном освещении» и вызывая в воображении слушателя порою величавые и светлые, порою скорбные и мрачные образы и настроения… К сожалению, судить об этом (и то только до известной степени) можно лишь по одному образцу: по «Дубинушке» для хора и оркестра, написанной Корсаковым в конце октября 1905 года. Он полагал в эти недели после Всероссийской всеобщей стачки и вырванного у правительства манифеста 17 октября, что старый порядок подорвался навсегда. Он писал Кругликову, что не запомнит такого радостного дня, как тот, когда газеты вышли без цензуры. «Дубинушка» в качестве вокально-симфонического сочи» нения зазвучала ликующе. Но и в оперу «Стенька Разин», судя по черновому эскизу, «Дубинушка» должна была войти мощно, победно, в характере торжественного шествия. Вероятнее всего, она назначалась композитором для заключительной сцены. Под энергичные звуки этой «песни рабочей артели» мог начаться великий поход казацкого войска на боярскую Москву. Скрывались вдали казаки, пустела площадь в осиротевшей Астрахани, и старица Алена сказывала вещее слово, что, пока живо будет великое горе народное, жив будет заступник и вожак народный, Степан Тимофеевич… Но опера осталась ненаписанной.
В декабре 1905 года приходит к концу нелепое отлучение Римского-Корсакова от дела музыкального просвещения. Получившая, наконец, нечто вроде автономии, Петербургская консерватория первым же постановлением возвращает в свои стены изгнанного, а вместе с ним и добровольно ушедших. Николай Андреевич вернулся, ничего не забыв и многому научившись. Ему тесно и гадко в среде музыкальных обывателей и службистов, вдобавок в значительной степени захваченных попятными течениями, неотвратимо возникающими при спаде общественной волны. Несколько раз он порывается уйти и каждый раз откладывает исполнение своего намерения из симпатии к Глазунову, ставшему директором и крайне нуждающемуся в поддержке против сил реакции. Дух и тон выступлений Римского-Корсакова решителен более прежнего. Он требует от Художественного совета уважения к постановлениям ученической сходки. Уважения во имя автономных начал, не дарованных консерватории временными правилами, а на самом деле, подчеркивает Корсаков, завоеванных ею. Он клеймит лицемерие призывов к законности, справедливости и свободе, во имя которых и под прикрытием которых пробуют вернуть консерваторию к отжившему порядку, весьма далекому от законности, справедливости и свободы.
Но какой-то сумрачный отсвет лежит на его поступках и мыслях. Все настойчивее думает он, что жизнь на исходе, что надо успеть закончить начатое и сделать то, что сделать необходимо. Весной 1906 года возвращается к «Борису Годунову», чтобы обработать и оркестровать эпизоды (рассказ Федора про «попиньку», «часы с курантами» и др.), ранее не включенные им в свою редакцию. Летом в южной Австрии, на озере Рива, доводит до конца «Летопись моей музыкальной жизни», значительно ускорив и сжав изложение в последних главах.
«Что же касается сочинения, — пишет он С. Н. Кругликову 3 июля 1906 года, — то тут, кажется, пора поставить точку… Лучше вовремя остановиться, чем переживать падение. Да и мысли у меня особые о судьбах искусства. Мне кажется, я, да и все мы, суть деятели конца XIX века и периода от освобождения крестьян до падения самодержавия. Теперь же, с переломом политической жизни на Руси или наступит новый период расцвета, или, что вероятнее, период упадка искусства. На Западе уже чувствуются признаки наступления этого периода, да и у нас имеются его признаки. Как известно, в периоды упадка действуют и великие таланты, как будто по инерции набравшиеся сил в период расцвета, но это уже не наш брат — деятель 60, 70, 80 и 90-х годов, это даже не Глазунов, а некие другие, более молодые».
В этом отрывке весь Корсаков, с глубиной и трезвостью мысли, честностью оценок и подавленной, усмиренной горечью. Тем же трезвым наблюдением продиктованы мысли о ходе революции, вступившей после декабрьского поражения в новую полосу. «Не верится мне в сколько-нибудь скорый исход, и думается, что канитель еще долго протянется, — писал он тогда же своему ученику, будущему мужу его младшей дочери Максимилиану Осеевичу Штейнбергу. — Пусть лучше длинное crescendo приведет к хорошему фортиссимо, а не так, как часто бывает у Вагнера: нарастает, нарастает, да и скиснет, и опять начинается «crescendo от рр»[33].