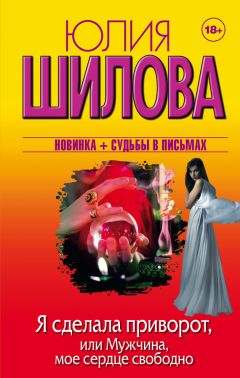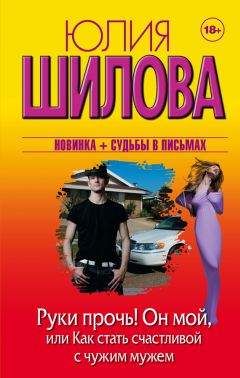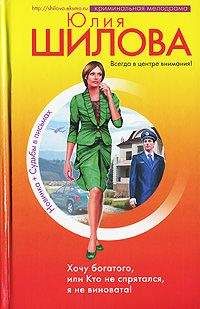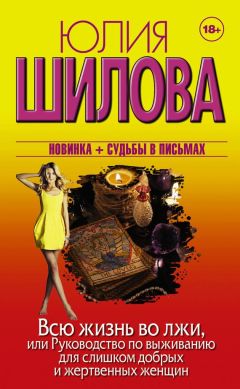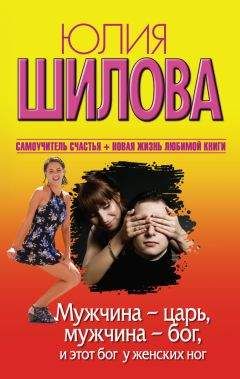Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни
В августе 65-го я приехал к Фуфе в Ленинград, в ее 300-й номер, где она жила, читала, писала письма, бросала свои вещи, уезжала сниматься. И только цветы этого лета ждали Раневскую в ее комнате, в Ленинграде. Был день ее рождения…
Осенью Фаина Георгиевна вернулась в свой высотный дом, где ее мучила давно знакомая тоска:
«27/XI 65. Сегодня мне приснилось, что я звонила по телефону, разыскивая Павлу Леонтьевну. Кто-то ответил в трубку что-то невнятное, и вдруг я явственно услышала ее голос, она сказала: „Кто-то зовет меня к телефону“ — и тут нас разъединили, я пыталась вновь позвонить, но забыла номер, проснулась в тоске. Приходила Норочка Полонская — добрая душа, я хотела рассказать ей сон, я под впечатлением сна ведь день — и постеснялась. Потом пришла Ирина, которая когда-то мне сказала, что не любит, когда ей пересказывают сны. И я вспомнила, что недавно думала и твердо знаю — ничто так не дает понять и ощутить своего одиночества, как когда некому рассказать сон. День кончился, еще один. Напрасно прожитой день — никому не нужной моей жизни. Ночь, 2 часа».
Когда была бессонница, Фаина Георгиевна читала Чаплина, вписывала в блокнот с изображением ее высотного дома:
«Искусство игры актера определяется его раскованностью, полным освобождением, актер особенно должен уметь владеть собой, внутренне себя сдерживать. Какой бы бешеной ни была сцена, в актере всегда должен жить мастер, способный оставаться спокойным, свободным от всякого напряжения, он ведет и направляет игру страстей. Внешне актер может быть очень взволнован, но мастер внутри актёра полностью владеет собой, и добиться этого можно лишь путем полного освобождения. А как достичь такой раскованности? Это трудно. Мой способ, наверное, очень индивидуален. До выхода на сцену всегда так страшно нервничаю, и бываю так возбужден, что к моменту выхода, вконец измученный, уже не чувствую никакого напряжения». — Чаплин.
Теперь в старости я поняла, что «играть» ничего не надо.
«11/XII 65. Если бы я вела, дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: „Какая смертная тоска“, и все.
Я бы еще записала, что театр стал моей богадельней, а я еще могла бы что-то сделать».
Утром 5 марта 1966 года в домодедовском санатории под Москвой умерла Анна Андреевна Ахматова.
Из записей Раневской:
«Умирая, Ахматова кричала „воздуха“, „воздуха“. Доктор сказала, что когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она уже была мертвой…
Почему, когда погибает ПОЭТ, всегда чувство мучительной боли и своей вины. Нет моей Анны Андреевны — она все мне объяснила бы, как всегда. Недавно звонила Арс. Тарковскому, благодарила за книгу стихов его. Книгу он мне прислал. Он сказал: „Нет Ахматовой, некому читать стихи“. Мне понравился и голос его, и манера говорить, и стихи его: „И некому стихи мне прочитать. И рукопись похожа беловая на черновик…“»
«Сначала бессонница. Потом приходит сон, когда просыпается дом и дети сбегают с лестницы, бегут в школу. Боюсь сна, боюсь снов.
Вот вошла в черном Ахматова, худая — я не удивилась, не испугалась, — спрашивает меня: „Что было после моей смерти?“ Я подумала, а стоит ли ей говорить о стихах Евтушенко „Памяти Ахматовой“, — решила не говорить. Во сне не было страшно, страх — когда проснулась, — нестерпимая мука. В то же утро видела во сне Павлу Леонтьевну — маленькая, черная, она жаловалась, что ей холодно, просила прикрыть ей ноги пледом в могиле. Как я всегда боялась того, что случилось. Боялась пережить ее. 1966, декабрь».
В 1966 году у Раневской премьера в «Моссовете». Ия Сергеевна Саввина вспоминала:
«1966 год. Репетиции „Странной миссис Сэвидж“. Режиссер — Леонид Викторович Варпаховский. Фаина Георгиевна стосковалась по работе. Готова репетировать с утра до ночи и „пилит“ режиссера за торопливость, дескать, зачем хватает человек столько работы — „я вас возненавижу: вы халтурщик“, — говорит шутливо, хоть подоплека серьезна.
Отвлекается неожиданно. Сидим, Фаина Георгиевна, рассказывая что-то, встает, чтобы принести книгу, возвращается, продолжая говорить. Мы внимательно слушаем, и вдруг: „Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: не могу стоять, когда мужчины сидят“. Села. Всем неловко. Раневская дарит улыбки — оценивая юмор и элегантность замечания…
Говорит о Варпаховском:
— Этот режиссер — единственный, после Таирова, кто не раздражает меня. Но и он работает не по моей системе. Откуда вы взялись? Ах да, вы мейерхольдовец! Ох, эти новаторы погубили русский театр. — И обращаясь ко мне: — С приходом режиссуры кончились великие актеры, поэтому режиссуру я ненавижу (кроме Таирова). Они показывают себя.
— А я люблю режиссуру и мечтаю о хорошей.
— Потому что хоть вы и родились техничкой-профессионалкой, но вы учитесь, а я знаю это пятьдесят лет. Мне бы только не мешали, а уж помощи я не жду… Режиссер говорит мне — пойдите туда, станьте там, — а я не хочу стоять „там“ и идти „туда“. Это против моей внутренней жизни, или я пока этого еще не чувствую. Станиславский говорил (хоть я никогда и не цитирую старика): „Когда мышь выходит из норы, она бежит по стенке“. Понимаете? Не знает еще, дурочка, что за комната, чьи там ноги, уши, звуки, — и бежит по стенке. Я ненавижу мышей, но в данном случае их понимаю… Да, я „испорчена“ Таировым».
Саввина продолжает: «Впервые я пришла в квартиру Раневской, когда она была больна, и мы репетировали „Странную миссис Сэвидж“ у нее дома. Высокая, седая, красивая (становясь старше, хорошела, но, когда ей говорили об этом, обижалась: „Вы надо мной издеваетесь“), в длинном черном халате, она казалась больше своей квартиры, словно не вмещалась в нее. Так же не вмещается ни в какие слова. У Андрея Платонова есть строки как будто про нее: „Он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать это, чтобы мы поняли“.
Мне нравилось заходить в театр, когда играла Раневская. Дверь из общего коридора, ведущая в ту закулисную часть, где артистические уборные, закрыта. Все стараются говорить тише. Сцена вымытая, пахнет не пылью, а свежестью. „Я сегодня играла очень плохо. Огорчилась перед спектаклем и не могла играть: мне сказали, что вымыли сцену для меня. Думали порадовать, а я расстроена, потому что сцена должна быть чистой на каждом спектакле“.
Раневская раздражалась по мелочам, капризничала „не по делу“, как считали многие. Так решила однажды и я, когда репетировали „Сэвидж“. И взбунтовалась. Потом боялась, что Фаина Георгиевна никогда не простит меня, а она сама позвонила, и мы часа четыре говорили и обе плакали. Чувствуя мое раскаяние, Фаина Георгиевна уверяла, что виновата во всем она, что не имела права не щадить мои нервы.