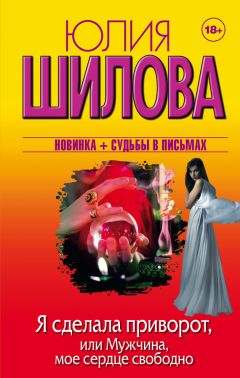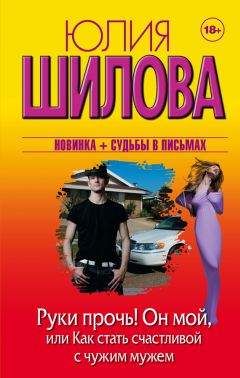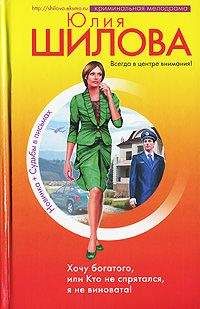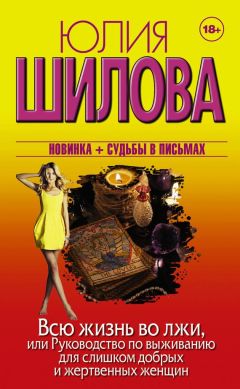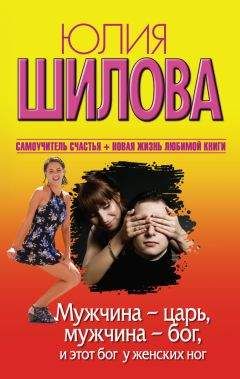Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни
После смерти Павлы Леонтьевны Вульф Раневская бросила курить. На окнах, полках и просто на столе лежали пачки и блоки сигарет, она раздаривала их знакомым. Фаина Георгиевна курила 50 лет — бросать было трудно. В вазе на столе лежали кубики черных соленых сухариков, они помогали ей не курить. Фаина Георгиевна говорила, что ей легче, когда вокруг открытые пачки сигарет, когда их много везде: «Я хожу среди них, бросаю им вызов — могу не курить».
Она часто замолкала, глядя вниз, в одну точку. Потом встряхивалась, вытирала глаза и говорила мне: «Я бы убила того, кто научил тебя курить. Возьми себе эти сигареты».
От тех дней осталась открытка Раневской, адресованная в Ленинград Ахматовой:
«Дорогой Раббик, узнала, что Вы нездоровы. Мечтаю о Вашем приезде в Москву, хочется быть с Вами… Пожалуйста не хворайте. Хотела написать большое письмо, хотела порассказать о себе, о том, как мне теперь одиноко, как обессмыслилась моя жизнь…»
И приписала на обороте открытки, там, где репродукция «Террасы кафе» Ван Гога: «Раббинька, я уже не курю, а без папиросы не могу связать и двух слов. Крепко обнимаю».
Но на Котельнической набережной у Фаины Георгиевны был период в начале 60-х годов, когда она не чувствовала себя одинокой.
Раневская добилась у министра культуры СССР Фурцевой, бывшей в те годы с Фаиной Георгиевной в хороших отношениях, не только возможности пригласить сестру, но и прописать ее в своей котельнической квартире.
Раневская подошла к Фурцевой и сказала: «Спасибо, дорогая Екатерина Алексеевна, вы — мой добрый гений».
Фурцева ответила: «Ну что вы, Фаина Георгиевна, какой же я гений, я простой советский работник».
И вот Изабелла Георгиевна Аллен получила от Фаины Георгиевны письмо с приглашением и приехала в Москву. Приехала окончательно, поменяв у нашего государства 1000 долларов на 900 рублей по курсу. У ее знаменитой младшей сестры не оказалось богатства, машины, виллы и всего остального, и сестры стали жить вместе на Котельнической, каждая в своей комнате.
Белла и в старости оставалась очень красивой женщиной: огромные грустные глаза, правильные черты лица. Обаятельная и даже слегка кокетливая немолодая женщина, она тщательно следила за собой. В ее комнате из украшений стояли лишь медные, безумной красоты, турецкий кувшин и чайник.
Изабелла Георгиевна не могла адаптироваться к социалистической действительности и так рассказывала о своих прогулках по незнакомой Москве: «Я заказала очки на улице какого-то сентября, где это, Фаина?» Имелась в виду улица 25 Октября, ей неведомого.
Когда Белла шла в продуктовый магазин и подходила ее очередь, она спрашивала продавщицу: «Как здоровье вашей матушки? А батюшки?» Сзади медленно наливалась злобой московская очередь.
Фаина Георгиевна повела однажды Беллу в самый лучший актерский ресторан, в ВТО; пока ждали официанта, Белла заметила: «Здесь же невозможно сидеть, так пахнет бараньим жиром».
Впрочем, впечатления Беллы о Турции были столь же критичны. «Все турки дураки — они вешают картины под самый потолок! Представляете, как надо задирать голову, ведь они же сидят на полу», — передавала Раневская рассказ сестры.
О парижских нравах Белла тоже рассказывала нечто своеобразное. Вспоминает моя тетка Елена Владимировна Вульф, слышавшая рассказ Беллы. «В пасхальную ночь на площади перед собором Парижской Богоматери давали мистерию о распятии Христа. Почему-то Изабелла Георгиевна имела возможность ходить за кулисы этих уличных спектаклей. Она рассказала, что молодой актер, усатый и бородатый, в гриме Христа, с набедренной повязкой, в терновом венке с каплями крови на челе и ланитах, курил за кулисами сигару и пощипывал девчонок, изображающих жен-мироносиц, умащивающих тело Христа после снятия его с креста. Девчонки пищали: „Мы жаловаться будем!“ Такой вот атеистический репортаж…»
Беллу разыскал ее давний поклонник, влюбленный в нее еще в молодости Николай Николаевич Куракин, сын князя, оставшийся верным своей любви до 70 лет. В Советской России он собирал и ремонтировал церковную утварь, реставрировал паникадила для соборов. Это был высокий, седой, подтянутый старый мужчина с красивым низким голосом и голубыми, очень светлыми глазами. Они с Беллой долгие часы проводили в ее комнате, откуда доносился сочный куракинский бас. Николай Николаевич по-прежнему был влюблен, это выглядело и комично и грустно. Фаина Георгиевна уставала и злилась за стенкой в своей комнате: «Старый осел, совсем сошел с ума».
Николай Николаевич рассказывал мне об английских акварелях, он сам писал этюды. Он обладал несомненным обаянием «уходящей натуры», в его глазах светились решительность и отчаяние одновременно.
Потом Изабелла Георгиевна тяжело заболела и в 1963 году умерла, прожив вместе с сестрой всего несколько лет. Раневская похоронила ее на Донском кладбище, сама выбрала камень из лабрадора и написала на нем: «Изабелла Георгиевна Аллен. Моей дорогой сестре».
Трудно складывались отношения Фаины Георгиевны и моей мамы, относившейся с великим уважением к таланту Раневской, масштабу ее личности. Мама боялась одного — характера Фаины Георгиевны.
Когда в жизни и творчестве Раневской наступали критические моменты — она много раз меняла театры, уходила от Завадского и возвращалась к нему вновь, — Ирина Вульф становилась защитницей интересов и Раневской, и Театра имени Моссовета, стремясь смягчить конфликт и всячески способствуя примирению и возвращению Раневской в труппу.
В начале 60-х годов у Завадского в Театре Моссовета появился новый директор — Михаил Семенович Никонов.
Завадский говорил про него: «Никонов — это фетиш: театру, где Михаил Семенович, сопутствует успех, удача. Теперь у нас будет „Кунктатор“ — свой римский полководец, взвешивающий все возможные и невозможные шансы».
От своего медлительного римского прототипа Никонов отличался сокрушающей настойчивостью — он подчинял всех импульсу художника и открывал дорогу творческому замыслу.
Фетиш Никонова был создан его собственными силами.
В музее Всеволода Мейерхольда в Пензе хранится письмо, написанное после ареста Мейерхольда, в котором общественность театра, дирекция ручаются за своего художественного руководителя, ходатайствуют о его скорейшем освобождении, выражают решительную солидарность с творческой позицией мастера. Письмо поражает уверенностью, мужеством и смелостью тона. Рядом с датой написания — 1937 год — стоит, наряду с другими, подпись «директор театра М. С. Никонов».
Я видел это письмо недавно, когда строил Дом молодежи в Пензе.