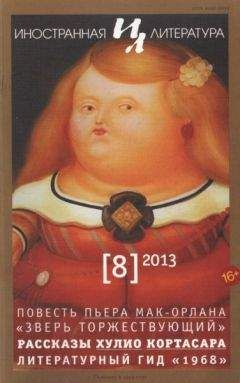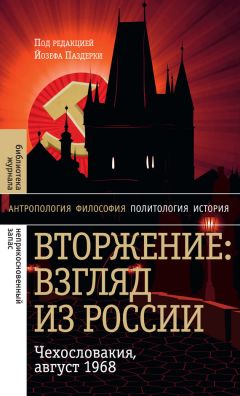Вадим Делоне - Портреты в колючей раме
В какой-то тряпке, из Москвы привезенной. Вся расчесанная и напомаженная. Подходит к ней мой дружок Колька и говорит: «Нами вы, наверное, гребуете?» – хотя мы все выглядели по сибирским меркам, как джентльмены. Она развернулась и со всей силы по лицу ему. «Что же это, Леха, с нашими так поступают! – начали меня подзуживать. – Иди, поговори, ты культурный!» Я вышел вперед и говорю: «Извините, пожалуйста, мой товарищ чуть пьян, и это нехорошо, но зачем же сразу по лицу бить?» Она размахнулась и ударила меня. Я не помню, что случилось дальше, помню только ехидные взгляды всей компании, помню, что хотел ударить и не смог. Достал финку, зажал ее на полсантиметра и полоснул – держи, мол, отметку на память. Вокруг народу было много, но нашей компании побаивались. А она, очумев, побежала в какой-то подъезд и там упала на лестнице. И никто не помог, понимаешь, никто! Она четыре часа пролежала, а потом умерла. На следствии говорили, что если бы сразу помощь оказать, то через две недели только бы шрам остался. Да и нас бы не взяли, конечно, если бы отец ее не был крупным партийцем, побоялись бы сообщить свидетели. Но все же загнали всю компанию в тюрьму как подозреваемых. Следовательница была молоденькая такая женщина, лет тридцати. Доказать ничего нельзя было. Никто из посторонних показаний не давал то ли из страха, то ли просто не хотел. Ну а с нас – что возьмешь… Она меня чаще других вызывала, уповая на мою грамотность и призывая к сознательности. «Я знаю, – говорила она мне, – это не вы убили. И удар какой-то странный, как бы только порез. Если бы не пришелся он в определенную точку, если бы эта девочка не лежала четыре часа на лестнице – в общем, масса совпадений, – то и ничего страшного не получилось бы. Но ведь с кем вы связались! Эти ваши друзья и вправду резать скоро начнут! И отчего именно дочку партийного деятеля? Я понимаю – вы живете в невыносимых условиях, но так же нельзя все-таки!» Мне все представлялось, как лежит эта девочка и никто к ней не подходит… Я заявил, что убил якобы из ревности, что друзья мои ни при чем. И заодно взял на себя все наши прошлые художества. Следовательница мне не поверила, но так и пришлось представить ей дело на суд. Мне было тогда шестнадцать лет, и расстрелять меня не могли, хотя отец пострадавшей и настаивал на расстреле… У нас с этой следовательницей даже любовь началась, правда, платоническая. Она мне в колонию для малолеток такие письма писала, что все тамошние цензоры зачитывались, все веру в будущее вселяла. Потом сообщила, что выходит замуж и писать больше не может… Как говорится – не все ли равно, за что сидишь, если срок идет. Но мне не все равно. Я каждую ночь не сплю. Я только так, с виду, сдержанный. Если бы я знал, что я сделал, я бы девочку из этого проклятого подъезда вытащил и на руках куда угодно донес, сразу же сдался бы! А то ведь сил моих нет! Я и лица ее толком не помню, только руку, руку, которой она меня ударила. Я еще остановил тогда руку и тупо разглядывал… Вот тебе и весь Отелло… Ты знаешь, политик, я был местным королем блатных. Тоже пришлось, не от желания красиво жить в лагере. Просто донимали суки-активисты, и я всегда поднимался первым. – Лешка закашлялся. – Но теперь хватит с меня. Пусть сами разбираются, а то вроде все благородные, а над другими издеваются! Давай, политик, лучше по глотку чая. А ты-то, кстати, – усмехнулся он, – не боишься заразиться? Барак-то здесь туберкулезный. Вон видишь, шнырь миски выносит – кашки поедят, а кусками кровавых бронхов возвращают.
– Эх, Леха! Чего мне бояться! Все вредно. Жить вообще вредно. Лучше скажи, как ты в туберкулезники попал, как-никак сибиряк, да не из слабых?
– А это, политик, – разъяснил Леха, – так, за любовь…
– То есть как?! – изумился я. – Что девушки от чахотки из-за любви сгорали, я слышал, и то это только в прошлом веке было. Но чтобы короли блатных – как-то нет!
– Да понимаешь, политик, все, как всегда, началось из-за драки. Чем резче бьешь, тем круче гнут… Доставили меня в больницу – активисты здорово надо мной поработали. Врачиха была там, Анной Петровной звали, ей уж было лет за сорок, но миловидная такая. Долго она меня выхаживала, ну а потом такая любовь началась, что никак не развяжешься. Она мне еду таскала, курево, а потом в кабинете с ней запирались. Охрана, конечно, знала, но помалкивала – больно уж изуродованным меня привезли, жалели. У нас всегда так – сперва натворят невесть чего, а потом жалеют. У врачихи у моей был муж, так она не смогла спать с ним больше – до развода дело дошло. А меня тем временем назад на зону отвезли. Как я ни крутился, что ни придумывал только, чтобы попать снова на больничку, ничего не проходило. Ну я и задумал мастырку, то есть чтобы сам себя потравить малость, и так, чтобы никто не подкопался. Но перестарался – как видишь, и правда открытый процесс туберкулеза заработал, – беспечно рассмеялся Леха.
– Ну а с врачихой что?
– Сняли с работы, разоблачили нас, понимаешь. Поймали на месте преступления. В какую-то глухомань ее загнали. Сначала писала, а теперь нет.
– Ну а что с туберкулезом?
– С туберкулезом плохо дело, лекаря говорят, а как оно на самом деле, я не знаю… А у тебя бабы из врачих были? – спросил Соловей.
– Да я как-то не делил их по профессиональным категориям. Впрочем, была одна история. Из-за приятеля в любовь ввязался. В шестьдесят шестом году наладились за мной кагебешники следить, хотели выставить из института. Ну я и решил мастырку сделать, пойти путем обмана, да подзалетел. Прихожу к врачу, говорю – «нервное переутомление, бессонница». Врач дал справку, что нуждаюсь в академическом отпуске. Я с этой справкой в институт, а меня из института сразу же под конвоем к главному психиатру Москвы, а оттуда в психушку. Правда, общего типа психушка, но тоже веселого мало. Я из приемной отзвонил друзьям, так меня сразу же за эти звонки в беспокойное отделение. Сначала думал – совсем пропал, шизофреники не спят ни днем, ни ночью… Потом огляделся. Двое так себе, вроде бы понормальней. Один писателем оказался детским, другой валютчиком. Писатель сидел за пьянку, мать его, старая большевичка, каждый раз, как в санаторий ложилась, писала на него доносы, что, дескать, белая горячка, чтобы он в ее отсутствие из имущества чего не пропил. Вот и сидел он в психушке по маманиным наветам. Другой, валютчик, косил, прикидывался больным, содеянного, мол, не помню. Его в отместку кололи, каждый день по два раза, совсем дошел. А куда денешься, статья серьезная, вплоть до расстрела, а меньше семи лет никому не дают. Я сразу предложил выпускать стенгазету – «Психовать, так психовать!» называлась, и подзаголовок: «Шизофреники всех стран, объединяйтесь!» Миша-валютчик рисовал карикатуры, писатель Арсений писал фельетоны, а я – стихи и передовицы… Каждый день перед обходом врачей кому-нибудь из шизофреников подсовывали, чтобы он незаметно вывесил. Врачи только руками разводили, но Мишку кололи. Была у нас старшая сестра Даша, она эти уколы и делала. Даша как Даша. Я ей стихи читал. Чувствую, действуют на нее стихи. Началась у нас любовь, как у тебя с твоей врачихой, Леха. Прятались в процедурном кабинете. Мне-то, собственно, эта Даша так, ни к чему была, но нейролептики Мишке она вкалывать перестала, то есть делала только вид, что вкалывает. Когда Мишка в первый раз был пощажен, он бросился ко мне и говорит: «Вот это да, поэт! А я до сих пор в любовь не верил!» Через три недели поднялся шум в мою защиту и меня выпустили с каким-то идиотским диагнозом, чудом вырвался.