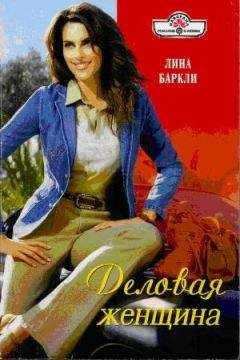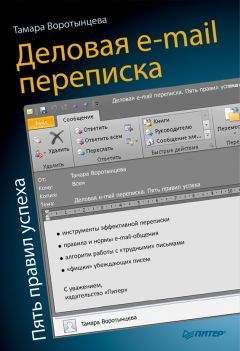Харкурт Альджеранов - Анна Павлова. Десять лет из жизни звезды русского балета
В Бремене (где нам довелось испытать сомнительное удовольствие девятичасовых утренников по воскресеньям) в труппу вступил Ханс Хелькен. Фрау Леонард просто заворковала от удовольствия, когда в труппе появился немец. Он был ужасно тщеславным и мог сказать: «Мистер Новиков прыгает так высоко, а я та-а-ак высоко».
Он намеревался выступать только в классическом репертуаре; когда мы репетировали «Русский фольклор», его назначили на роль шута, но он был таким упрямым, что мешал репетициям своим нежеланием разучивать роль.
– Я могу, но не буду, – обычно говорил он, прямо переводя с немецкого на английский.
Наконец Новиков не выдержал и закричал, по-русски заменяя «Х» на «Г»: «Ганс! Что ты делаешь?» Это привело мальчишку в ярость, а те из нас, кто знал, что Gans означает «гусь», про себя засмеялись, настолько это соответствовало сложившейся ситуации.
Партнером нашей второй балерины Алисии Вронской был Альперов. Наши фамилии иногда путали, и порой меня называли Альперанов. В их репертуар входило много дивертисментов, включавших самые изумительные поддержки. Альперов был очень сильным, он поднимал Вронскую на вытянутых руках без малейшей видимой подготовки, всегда удерживая танец в границах классики, не опускаясь до уровня простой акробатики. Их костюмы и музыка тоже всегда отличались высочайшим вкусом. Когда мы приехали в Берлин, Павлова, понимавшая, что мне хочется и просто необходимо танцевать что-то современное, спросила:
– Почему бы тебе не попросить того молодого человека из Немецкой государственной оперы поставить для тебя танец?
И я обратился к Максу Терпису.
– Что вы хотите, чтобы я поставил для вас? – спросил он.
Я не смог сказать ничего более определенного, чем «что-нибудь современное».
– Есть ли у вас в Англии какое-нибудь существо, которое пугает людей?
– Есть Боугимен, страшилище, которое пугает непослушных детей, не желающих идти спать.
– Тогда давайте сделаем танец о нем.
Несколько дней спустя он сообщил мне, что нашел подходящую музыку, и попросил прийти в определенное время в репетиционный зал оперного театра на Унтер-ден-Линден, чтобы приступить к работе. Я пришел, переоделся, и мне дали несколько упражнений для головы и плеч, которые я стал делать в ожидании пианиста. Он пришел через несколько минут и исполнил скерцо из «Любви к трем апельсинам», которое, естественно, привело меня в восторг.
– А теперь импровизируйте, – сказал Терпис.
Я был совершенно потрясен. Всю жизнь меня в точности учили тому, что я должен был сделать; сейчас мне предлагали совершенно иной подход, я чувствовал себя словно человек, находившийся на краю пропасти и не смевший пошевелиться. Затем я собрался с духом, чтобы попытаться, и принялся осуществлять какие-то движения, которые диктовались темой и музыкой. В тот момент я казался себе лежащим глубоко внутри яйцом из набора русских пасхальных яиц, вкладывавшихся одно в другое. Внешние скорлупки отпали, все академическое обучение исчезло, когда я окунулся в Freibewegung[70]. Терпис запоминал подходящие движения и тщательно разрабатывал их, направлял, формировал общий рисунок танца и создавал единое целое. За час танец был готов. Во время двух последующих репетиций мы разбирали и отшлифовывали детали, а затем в течение шести месяцев я репетировал, пока не состоялся закрытый просмотр «Боугимена» в Копенгагене.
Мы меняли программу каждую неделю, и репетиции продолжались подолгу. На улице всегда было холодно. С Вронской произошел несчастный случай: она сломала ключицу, а это означало, что Павловой пришлось танцевать во всех балетах. Пришлось пригласить Грубе, приму-балерину из Немецкой государственной оперы, чтобы она станцевала в «Волшебной флейте», что было вполне в ее стиле, но она танцевала слишком много современных танцев, чтобы справиться с технической стороной роли. Нас всех шокировало, что она не сбривала волосы под мышками, – вдобавок она носила рыжий парик, хотя от природы была брюнеткой. В программу очень часто включали «Лебедя», поскольку толпы народу ежевечерне спрашивали в кассе театра: «А Павлова будет танцевать «Умирающего лебедя» во время этого представления?» И если слышали в ответ: «Его нет в этой программе», то уходили со словами, что больше всего хотели бы увидеть этот балет. Бедная Павлова! Если нам нужно было бы подтверждение ее гениальности, мы нашли бы его в том, как она танцевала «Лебедя» – всегда как будто в первый раз.
Наш рождественский вечер состоялся в большом фойе театра. В середине дня в сочельник в Берлине все закрылось, как в воскресенье в Белфасте. Один приятель, служивший дипломатическим курьером, проезжая через город, попросил нас с Обри Хитчинзом встретиться с ним в посольстве и пообедать. Приехав в посольство, мы не увидели там никого, кроме нашего друга, до нас только доносились голоса слуг, распевающих «Heilige Nacht»[71], пока мы бродили в поисках чего-нибудь перекусить. Мы смогли добыть только кофе и сандвичи в кафе на Унтер-ден-Линден, которое вот-вот должно было закрыться.
Сезон оказался довольно тяжелым, хотя и не был сопряжен с переездами. По воскресеньям мы давали по два представления, по понедельникам балетов не было, но мы обычно репетировали. В труппе возрастало недовольство, требовали выходной день, чуть не разразилась забастовка. Некоторые из новых членов труппы высказывались наиболее решительно, и это не улучшало атмосферу. Было очевидно, что Дандре расстроен и рассержен из-за этого недовольства, но когда кто-то спокойно сказал, что вопрос стоит не о семи рабочих днях в неделю, а о тридцати – в месяц, он тотчас же отреагировал и все уладил. Мы старались посетить как можно больше театров. «Любовь к трем апельсинам» в «Кролль-опере» стала причиной приятного волнения одну неделю, «Электра» – другую. Конечно, мы не ограничивались только посещением оперы, но так же отправились в «Гроссес Шауспильхауз», чтобы увидеть Клэр Уолдорф в «Халлер-ревю», а в другой раз пошли посмотреть труппу «Chauve Souris»[72] и послушать Балаева, произносящего свои замечательные речи на ломаном немецком вместо ломаного английского. Сента Уилл оказалась с ними, и я был рад снова увидеть ее. Однажды в воскресенье мне дали билеты на представление с участием легендарной Эльзы Крюгер; с момента прибытия в Германию мы видели ее фотографии, рекламирующие сигареты, на каждом железнодорожном вагоне. Она выступала в Лондоне в «Колизее» с русским романтическим балетом, я слышал такие блистательные отзывы об этих выступлениях, что мне захотелось увидеть ее. Это был маленький театрик, декорированный в преувеличенном стиле рококо, где-то неподалеку от Курфюрстендам. Всю программу поставил Романов. После первого антракта заиграл оркестр, артисты вышли на сцену, хореография вела к появлению Крюгер – но ее не было! Оркестр заиграл во второй раз, и танцовщики принялись импровизировать. Когда, наконец, она появилась, то танцевала необыкновенно хорошо, хотя впечатление от постановки в целом осталось неважным из-за неудачного управления сценой. Из балетов Немецкой государственной оперы мне удалось посмотреть «Легенду об Иосифе», «День рождения инфанты», «Пульчинеллу» и «Арлезианку». Их «Пульчинелла» понравился мне во многом больше, чем постановка дягилевского балета, а «Легенда об Иосифе» неизмеримо выше реалистической версии, которую я увидел год спустя в Милане, где Иосиф носил балетные туфли, а танец боксеров совсем не походил на танец – настоящие боксеры в маскарадных костюмах били друг друга, не обращая внимания на музыку. А при каждом всплеске божественной музыки появлялись какие-то люди, облаченные в нечто похожее на розовые фланелевые ночные сорочки, с пальмовыми ветвями в руках. «День рождения инфанты» слишком старый спектакль и вышедший из моды, а «Арлезианка» доставила огромное наслаждение, особенно фарандола, которую с такой живостью исполнила Кройцберг.