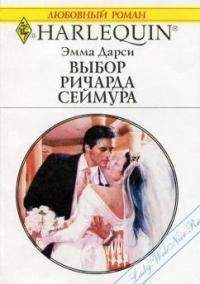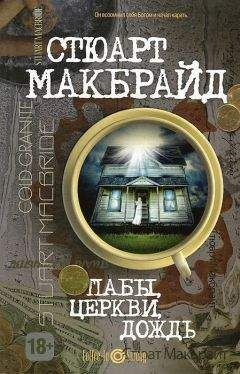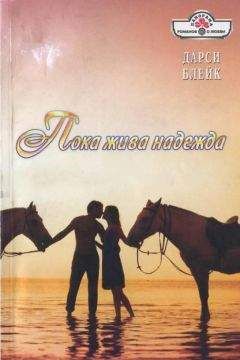Борис Дьяков - Повесть о пережитом
— Ты с ума сошел!..
Он истово перекрестился.
— Крест святой, помер… Радиво на станциях шумит…
В его глазах был слепой страх.
Не помню, как дотащил я санки до каптерки. Снег порошил лицо, забивал уши. Лампочка в каптерке перегорела. Сгрузил мешки на пол. Стоял в холодной темноте. Во мне нарастала острая боль: «Он не должен был умереть, пока мы здесь… Пока не узнал всю правду… Пока не исправил…»
Заперев каптерку, я пошел напрямик, по сугробам, к бараку. Бледные лучи прожекторов шарили по зоне и никак не могли просверлить снежную мглу.
На полпути столкнулся с Ермаковым. Широкой грудью он штурмовал налетавшую белую силу.
— Слыхал, отец родной приказал долго жить? — кричал в метель Ермаков. — Надзиратель сказал… Аминь!
Я остановился.
— Петр Владимирович! Ты… радуешься?
Он ничего не ответил. Продолжал шагать по сугробам и потом исчез в вихревом кольце.
В бараке спали. Лишь Дидык бодрствовал, сидел в белье на вагонке.
— Скилькы этапу?
Я подсел к Дидыку. Начал нерешительно:
— Харитон…
Он пытливо взглянул на меня.
— Що там?
— Говорят, Сталин умер.
— Тю на тебе! Хто бреше?
— Один сказал… из этапа. А Ермакову — надзиратель.
— Хай инши кажуть, а ты… твое дило — мовчи! — строго проговорил Дидык. — А то ще сроку прибавлють, ей-бо!
Он вышел в коридор курить. Я лег под одеяло.
«Кому же теперь писать?.. Как пойдет вообще вся жизнь?.. Что будет с нами, заключенными?.. Не всколыхнутся ли враги, не затеют ли войну?..»
Вернулся Дидык.
— От люды! Нагавкають таких «параш», шо мозга на мозгу лизе! — бурчал он, укладываясь. Вытянулся во весь свой исполинский рост, натянул одеяло на голову, поверх — бушлат, и примолк.
Я ворочался на вагонке. В тревожной полудремоте мне вдруг ясно представился Сталин в гробу: рябоватое лицо, полуоткрытый рот, увядшие седые усы и… открытые глаза! Смотрит, будто живой!.. Смотрит, но не может произнести ни одного слова… Чей-то голос: «В свою последнюю, предсмертную минуту он увидел всех оклеветанных, всех расстрелянных, и ужас сковал его!»
Я поднялся с подушки. «Кто это сказал?..» Кругом сонное царство. Слышался приглушенный храп Дидыка. Кто-то плакал во сне, кто-то стонал.
Снова упал я на подушку…
…В барак входит Сталин — в кителе, сапогах и черной кожаной фуражке. Садится на табуретку возле моей вагонки, раскуривает трубку. Один глаз полуприкрыт, над другим вздернулась бровь.
— Я еще не умер… — говорит он и дымит трубкой.
Дым густой, едкий, все кругом окутывает. Я вижу только прищуренный глаз Сталина. Хочу вскочить, и нет сил: вместо одеяла на мне — чугунная плита. Лежа, придавленный, о чем-то прошу, что-то горячо доказываю. Сталин не слышит и только повторяет:
— Я еще не умер… Не умер!
— Па-а-адъем! — раздался оглушающий голос Рябченко. — На поверку!
Все завозились, задвигались, загалдели. В непогоду нас обычно не выгоняли во двор, подсчитывали на местах, но тут всех без исключения, даже ползающих и падающих инвалидов, заставили выстроиться на линейке.
На помощь Рябченко пришел молодой надзиратель Вагин — белесый, с фарфоровыми глазами. Считали нервно, торопливо.
Днем меня вызвал оперуполномоченный Калашников. У него полное, безбровое лицо, низкий лоб, бегающий взгляд. Сидел за столом и перебирал письма.
— Фамилия? — хрипло спросил Калашников, хотя отлично ее знал.
Стал откладывать в сторону конверт за конвертом.
— Почему жена часто пишет?
— Любит.
Он отвалился на спинку стула.
— Что за ответ?
— По существу вопроса, гражданин начальник.
— Развязно держишь себя!
— Не понимаю…
— Тон, тон какой? У тебя номер на спине, а я офицер. Понимаешь разницу?
— Разницу между нами?.. Понимаю.
— То-то же!.. Шестнадцать писем, три бандероли! Черт ее бери!.. Загружает почту, цензуру… Вот не отдам, а? — Он осклабился. — Не отдам, и точка!
— Вы все можете, гражданин оперуполномоченный. Даже можете отнять у несправедливо заключенного единственную радость.
— «Несправедливо»!.. Страдалец! Может, коммунистом себя еще считаешь?
— Считаю.
— Ишь, какой!.. А жену воспитать не сумел. Коммунист, ха! Она же у тебя верующая!
— Откуда вы заключили?
— Откуда?.. Из писем. Что ни письмо, то «слава богу», «слава богу»!.. Чего улыбаешься?..
Ребром руки он сдвинул на край стола пачку писем, бандероли. Одна из них свалилась на пол.
— Забирай!
Я схватил почту. «Вера, милая, ты и не подозреваешь, какую силу шлешь сюда!»
— Разрешите идти?
— Обожди.
Он вышел из-за стола, поскрипывая сапогами. Сунул руки в карманы брюк. Остановился против меня.
— Ты не имеешь права называть себя коммунистом. Это вызов органам! Понял? — повелительно спросил он.
— Не понял!
— Называть себя коммунистом, находясь в лагере, ты не и-ме-ешь пра-ва!
— У меня вообще нет никаких прав, гражданин начальник, кроме права мыслить.
— Иди! — Лицо его и шея стали пунцовыми. — За мысли срок даем!
Нервничал оперуполномоченный…
Нервничал и Этлин. Он приказал доставить к нему лежавшего на койке престарелого генерала, профессора Гельвиха.
…Недели две назад я познакомился с Петром Августовичем Гельвихом. На его имя поступил денежный перевод от родных. Рано утром я вошел к нему в четвертый барак. Худой старик с трясущимися руками в одном белье стоял у койки, держался руками за спинку, приседал до полу и сиплым голосом считал:
— Раз, два… три, четыре…
— Что это вы, генерал?!
— Гимнастика…
Он остановился. Перевел дыхание. Подтянул сползавшие кальсоны.
— Вы ко мне? Присаживайтесь, прошу.
Решительным жестом указал на табуретку. Сам опустился на край койки.
— Чем могу быть полезен?
— Зачем, генерал, вы утруждаете себя такими движениями?
— Не утруждаю, а укрепляю. Хочу сохраниться… Мне нельзя умирать. В голове одно открытие… Должен передать правительству…
Узнав о присланных деньгах, сморщился:
— Зачем они? Карандаш и бумага нужны!
— Что же раньше не сказали? Достану вам и бумагу и карандаш.
— Неужто? — обрадовался старик. — Вот спасибо, голубчик!.. Формулы, понимаете, формулы замучили, спать не могу, а записывать некуда и нечем… Цифирь знаете, какая штука?.. Удерет из башки — и баста! Лови потом… Мне же, голубчик, во-семь-де-сят!.. И трудиться я начал с тысяча восемьсот… постойте, постойте!.. — Он потер желтый лоб. — Да, совершенно верно: с восемьдесят шестого. Уже в тринадцать лет давал мальчишкам домашние уроки, ре-пе-ти-тор-ствовал. Надо было на хлеб… Отец — учитель, чего он там… Так когда же, голубчик, соблаговолите бумагу и карандаш?