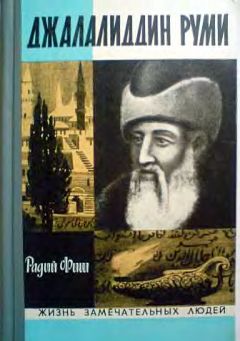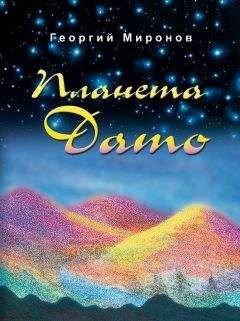Радий Фиш - Джалалиддин Руми
Удостоверившись, что все на месте, достал подвязанную под мышкой кису с деньгами. Вынул золотой алаи и серебряный дирхем, заткнул их за пояс. Поместил кису на свое место. Покопавшись в суме, достал из нее длинный шнурок с золотой и серебряной нитями и вышел во двор. Совершил омовение у фонтана. Затем отправился к хозяину купить замок для своей комнаты. Завидев на нем богатый дамасский халат, хозяин вытащил из сундука и угодливо разложил перед ним самые дорогие: халепской и генуэзской работы, произведения искусства армянских, грузинских, самаркандских и бухарских мастеров, плоские и круглые, с дужками и складные, из двух частей.
Он выбрал самый тяжелый и хитроумный, с тройной бородкой на ключе. Хозяин запросил целый золотой.
Он не стал торговаться. Кинул монету на сундук, попросил в придачу небольшую циновку. Нацепил ключ на свой роскошный шнур и надел его через плечо.
Теперь он выглядел ничуть не хуже богатого дамасского купчины. Кто мог бы подумать, что в его пустой, как келья отшельника, комнате, хранится всего лишь сума с нищенской чашкой и Кораном да циновка с халатом?!
У ворот сидели саррафы — уличные менялы. У них по самому последнему курсу можно было разменять на султанские акче любую монету — медные мангыры, золотые динары-аллаи, египетские или халепские юсуфи, генуэзские флорины, венецианские дукаты, серебряные дирхемы. Саррафы были и маклерами, и ростовщиками, а часто и откупщиками. У них можно было ссудиться деньгами под изрядный процент. Поручить им любую сумму, взамен нее получив лоскут кожи с таинственными знаками, которые могли разобрать только сам сарраф и его компаньоны. За этот кусок кожи точно такую же сумму можно было получить у другого саррафа где-нибудь в Каире или Бухаре, Дербенте или Генуе.
Путник бросил на коврик саррафа серебряный дирхем, получил за него десять акче, упрятал их за кушак и, расстелив у стены караван-сарая Рисоторговцев циновку, уселся на нее, поджав под себя ноги.
Он не торопился. За долгие годы странствий вошло у него в привычку, прежде чем начинать какое-либо дело, проводить один день вот так, сидя на улице, а второй — бродя по базару. Приметливому взгляду бывалого странника за эти два дня открывалось главное — чем и как живет город. И без особых усилий случай всегда посылал ему нужные встречи.
Караван-сарай Рисоторговцев, выстроенный на деньги купеческого цеха, стоял неподалеку от перекрестка двух больших улиц. Напротив, наискось от ворот высилось богатое медресе, чуть поодаль — другое. В проулке виднелись купола бань. Место самое что ни на есть бойкое.
Вскоре после третьей полуденной молитвы ученики медресе заполнили улицу. Одни поспешили в сторону базара к многочисленным харчевням и поварням, дабы насытить бренное тело. Другие почтительно сопровождали мюдеррисов, отправлявшихся по своим ученым делам к собратьям по профессии, в присутствия и диваны.
С базара возвращались купцы-постояльцы если не веселые, то, во всяком случае, удовлетворенные — наверняка первое торговое утро недели не пропало для них даром. Приказчики, перекупщики, караван-вожатые переругивались, по большей части беззлобно, с менялами-иноверцами. Дервиши подступили к нему, грозно стуча клюками и напоминающе побрякивая медью в кокосовых чашках, подступили и прошли.
Сквозь толпу по улице пробирались ослики с вязанками дров, корзинами, бурдюками с ключевой водой. Кричали водоносы, продавцы шербетов, мелочные торговцы. Словом, жизнь текла как везде и повсюду, и можно было бы подумать, что не было и в помине ни монголов, ни голода, если бы в толкотне этой не чувствовалось подавленности, какой-то приниженности. Голоса торговцев звучали громко, но не весело, саррафы потирали руки скорей по привычке, чем от удовольствия после хорошей сделки. И на лицах прохожих, стоило им остаться наедине со своими мыслями, часто ловил путник скорбь и задумчивость.
Но вот по толпе прошло волнение. Словно ветер пронесся над тростником — все головы повернулись в одну сторону. Не монгольский ли нойон, не султан, не вельможа ли скачет, подумалось было путнику, но тут до его слуха долетело имя:
— Едет Мевляна Джалалиддин!
Это имя он услышал впервые лет десять назад в Дамаске. Потом все чаще долетало оно до него то в Халебе, то в Эрзруме, то в Кайсери, то в Тебризе, пока не позвало в путь.
Он встал с циновки и двинулся к середине мостовой.
Верхом на высоком муле-иноходце к перекрестку приближался улем, окруженный мюридами и учениками, сопровождавшими его пешком по обе стороны, слева и справа, точно пешие воины знатного всадника. Окладистая, лопатой темная борода лежала на груди. На правое плечо свисал конец чалмы. Руки, державшие повод, упрятаны в широкие рукава хырки. Лицо смуглое. Глаза опущены вниз, точно не замечает устремленных на него взглядов, не слышит почтительного, но громкого шепота, которым произносят его имя. То ли в самом деле погружен в себя, то ли тяготится людским вниманием.
Растолкав локтями толпу, путник выскочил вперед. Вскинулся к морде иноходца — от резкого движения рукава халата соскользнули до локтя, обнажив жилистые, точно сплетенные из вервия, руки — и схватил мула под уздцы.
–В ту памятную субботу Джалалиддин был снова приглашен на диспут в медресе Пембефурушан, построенную на пожертвования цеха торговцев хлопком.
Темой диспута были два хадиса. Пророк Мухаммад сказал: «Первое, что сотворил Аллах, — белая жемчужина». И сказал еще: «Первое, что сотворил Аллах, — разум».
Спор разгорелся о том, однозначно ли выражение «белая жемчужина» перворазуму, именуемому по-арабски «ал-акл-ал-аввал». И является ли абсолютность, универсальность и потенциальность тремя сторонами, с которых можно рассматривать перворазум, или же они его эманации.
Диспут длился вторую неделю. И давно наводил на Джалалиддина, как, впрочем, почти все подобные диспуты, глухую тоску. Казалось, ученые мужи собрались не для того, чтобы понять друг друга, выслушать и вникнуть в смысл речей, а, напротив, ждали лишь оплошности или оговорки противника, чтобы поймать его на слове и показать собственную ученость. Стоило какому-нибудь улему прервать свою речь, чтобы перевести дыхание, как тут же находился другой, только и ждавший, как бы оглушить ворохом изречений и хадисов. Не самоотверженный поиск истины, а ристалище самолюбий, где каждый упивался своей начитанностью, логикой и умом.
Это претило Джалалиддину все сильнее. Но диспут был назначен настоятелем медресе Сейфиддином, некогда яростным противником Джалалиддина, а ныне признавшим его наконец, и отказаться от приглашения значило бы проявить мстительность и высокомерие.