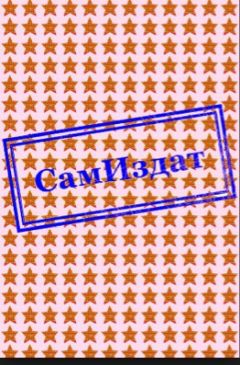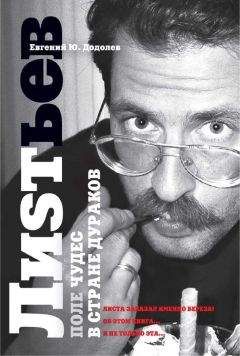Павел Огурцов - Конспект
— Сейчас придем, — ответил отец и поднялся. Пока шли, я сказал, что они интересовались — какие у нас ценности.
— Я подумал, что если скажу — никаких, они не поверят.
— Правильно, — отец остановился. — Но что ты им назвал?
— Обручальные кольца и нательные крестики. Они еще спрашивали — есть ли золото и золотые часы. Я сказал, что нет. Ни у кого. Тогда они — есть ли серебро? Я сказал, что есть четыре чайные ложки.
— Почему же четыре?
— Для правдоподобия.
Отец улыбнулся, и мы вошли в дом.
16.
Известие, которое я сообщил, не вызвало ни ахов, ни охов, только Сережа чертыхнулся. Решили сегодня же все ценное отвезти Галиной подруге Надежде Павловне, у которой обыск уже был. Ценностей оказалось больше, чем я думал: у Гали, кроме часиков, — ожерелье из янтаря и овальная брошка из красивого желто-оранжевого камня, у Лизы, кроме паука, — ожерелье из жемчуга и золотые серьги со сверкающими бриллиантиками. Когда укладывали столовое серебро, прибавили чайные ложки с монограммой Е. Г. — Елизавета Горелова.
— Четыре чайные ложки придется оставить, раз Петя о них сказал, — начала говорить Галя, Сережа ее перебил:
— И правильно сделал, что сказал! Не поверили бы, что у нас ничего нет! Еще, чего доброго, взяли бы в заложники Гришу или меня, пока не сдадим ценности.
— Да я Петю ни в чем не упрекаю, просто сказала, как было... Чего ты на меня напал?
— И не думал нападать! Что ты выдумываешь? Просто сказал, что Петя правильно сделал.
— Ну, чего вы заелись? — вмешалась Лиза. — Ни с того, ни с сего. И не стыдно? Стало тихо.
— Петя, а почему ты им сказал, что у нас именно четыре ложки? — спросила Галя.
Ну, если заберут, то хоть часть останется. Я не понимал, почему все захохотали, и переводил взгляд с одного на другого. Усмехалась и бабуся.
— Маленькая польза, — улыбаясь, тихо сказал отец. Я вспомнил «Мою жизнь» Чехова и тоже засмеялся, но почему смеялись другие, я так и не понял.
— Петя, ты проводишь меня? — спросила Галя. — А то вечером одной с такими ценностями...
— Я тебя провожу, — сказал отец. — Давно у них не был.
— Пойдем вместе? — спросил я.
— Да зачем тебе идти? Я же сказал, что провожу. — И чуть позже тихонько добавил: Ты уже раз отвозил. Хватит с тебя.
Отец и Галя вернулись поздно — мы уже улеглись на ночь, но я читал, ожидая отца. Он сел возле меня и попросил еще раз рассказать о гэпэушниках. Теперь я рассказывал подробно, ничего не пропуская, и заметил, как отец взволновался, когда услышал о попытке заставить меня добыть сведения о родственниках Кропилиных. Когда я рассказал, как один из них прикрикнул на меня, чтобы я помолчал, другой уставился вопросительно на первого, а первый отрицательно помотал головой, я спросил отца — что это могло значить?
— Расскажи до конца, потом подумаем. Когда я кончил, отец спросил:
— Значит, они о родственниках Кропилиных больше разговор не поднимали?
— Нет, не поднимали. Отец улыбается.
— Не знаю, как ты действовал — сознательно или интуитивно, но действовал правильно.
Затем отец сказал, что если бы я сообщил, где находятся ценности Торонько или навел для них справки о родственниках Кропилиных, то оказался бы на крючке: они могли бы, прибегая к угрозам и шантажу, заставить меня выполнять другие поручения, возможно — куда более гнусные, и волей-неволей я превратился бы в их агента и потерял бы право считаться порядочным человеком. Только сейчас я сообразил, на краю какой пропасти находился, и вскочил.
— Да ты не волнуйся — упрекнуть тебя не в чем. Вел ты себя как следует и при том благоразумно: сгоряча не наговорил чего-нибудь такого, за что пришлось бы расплачиваться. Да ты хоть сядь.
— Папа, а как ты думаешь: то, что я вел себя благоразумно, не сказал того, что думаю, не называл вещи своими именами, — не есть ли это приспособленчество? Ради выживания?
— Ты уже и о таких вещах задумываешься?
— И не только я. Приходится.
— Приспособленчество? Ну что ты! Если бы ты выдал ценности Торонько или подвел бы родственников Кропилиных, — вот это было бы приспособленчеством. Ради выживания или, еще хуже, — ради карьеры.
— Я не оправдываю изъятие ценностей и, вообще, не хочу с ними сотрудничать. Но я скрыл это и, как мог, выкручивался. Значит, я дал им основание думать, что я разделяю их взгляды — разве это не приспособленчество?
— Если бы ты раскрыл им свои взгляды — это была бы ненужная бравада, которая ни тебе, ни другим ничего не дала. Поступили бы с тобой как с контриком, — вот и все.
— Это я понимаю. Но ведь все-таки, по сути, это — приспособленчество?
— Да нет же! Я бы это назвал балансированием. — И, помолчав, добавил, — на канате над пропастью.
— Ради выживания.
— Конечно. Но ничего бесчестного в этом нет.
— А где же граница между балансированием и приспособленчеством?
— А ты сам подумай.
— Ага! Приспособленчество — это когда сопряжено с какой-нибудь подлостью.
— Это когда... Фраза неграмотная, но мысль верная.
Я опять спросил, что могли означать вопросительный взгляд одного и отрицательное мотание головой другого. Отец ответил, что в ГПУ ему бывать приходилось — его арестовывали, а потом отпускали, он состоит там на учете, но с ним таких разговоров, как со мной, не вели, и с уверенностью он ничего сказать не может. Можно только предполагать. Конечно, они встречаются с попытками уйти от их поручений, но, наверное, в большинстве случаев им удается заставить такие поручения выполнять. А тут вдруг — категорический отказ да еще, кажется, с криком на всю улицу.
— Недаром же тебе сказали «А ну, тише!» Ты на них кричал?
— Да не на них, а просто отказывался. Но, кажется, не кричал, а громко говорил.
— Все равно к такому поведению они вряд ли привыкли, это могло их обозлить, и один из них взглядом спрашивал: заберем? Ну, а отрицательное покачивание головы всегда означало: нет. Это, конечно, только предположение, могут быть и какие-то другие объяснения. Но это неважно. Важно то, что тебя отпустили.
По утрам я просыпался с мыслью: а обыска и сегодня не было. Об этом не говорили, но чувствовалось по настроению и обмену взглядами, что все просыпались с этой мыслью — авось пронесет. Я уже имел билет, готовился к отъезду и последние дни проводил с друзьями. Однажды перед сном отец снова заговорил о гэпэушниках.
— Я все думаю — почему они тебя отпустили? На их гуманность, на то, что они пощадили молодого паренька, рассчитывать не приходится — не такие это люди. Может быть, почувствовав твою ершистость, они махнули на тебя рукой: толку от тебя не жди, им нужны люди покладистые. Это было бы лучше всего, но никакой уверенности, что это так, конечно, нет. Может быть тут расчет, что ты им можешь пригодиться. Но в чем? Они охотятся за ценностями Торонько, значит — в этом. Вряд ли в чем-нибудь другом. Я молчал, но признаюсь: мне не хотелось, чтобы ты уезжал. А теперь я думаю: это хорошо, что ты сейчас уедешь — тебе надо от них на какое-то время оторваться. Искать тебя не будут — там ты им не нужен.