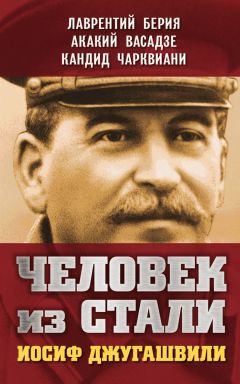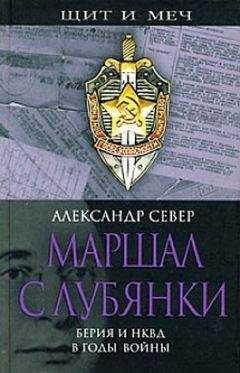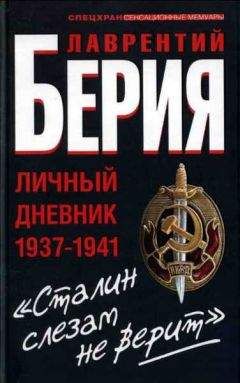Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело
– Так вот и поезжайте же к нему, к этому художнику… А Гумилева бросьте. Может, хоть этим Вы его сделаете человеком.
Вновь на Бульварной, Ахматова решительно объявила, что немедленно уезжает… к матери в Киев. Раздосадованный Гумилев, швырнув перо, поклялся не притрагиваться больше к ее стихам:
– Не веришь мне – не надо. Хочешь, я напишу Брюсову? Ему-то ты поверишь?
На перроне, провожая жену, он продолжал недоумевать:
– Что за прихоть! Мы ведь с тобой должны быть в Слепневе!
Ахматова заверила, что в Киеве прогостит недолго, недели две. А вскоре на Таврическую из Казáтина, завершающего первый железнодорожный перегон от Киева к юго-западным границам Империи, на имя Веры Шварсалон пришло лаконичное письмо: «Еду и пишу Вам».
Тут же были стихи:
Твоя печаль, для всех неявная,
Мне сразу сделалась близка,
И поняла ты, что отравная
И душная во мне тоска.
XVIII
Бежецк и Слепнево. Варвара Лампе. Семейство Кузьминых-Караваевых. Традиции усадебного быта. Племянницы Мария и Ольга. Несостоявшаяся встреча. Болезнь Маши Кузьминой-Караваевой. В Борисково. Дмитрий и Елизавета Кузьмины-Караваевы. Владимир Неведомский. Возвращение Ахматовой. В Подобине. «Бродячий цирк» и commedia dell'arte[170]. С Ахматовой в Москве. Письмо Веры Неведомской. Москва, Ярославль и вновь Слепнево. «Любовь-отравительница». Убийство Столыпина.
Восьмичасовой поезд с петербургского Николаевского вокзала прибывал в Бежецк в шесть часов утра. Лошади уже ждали: кучер Василий принялся усаживать Гумилева в допотопный шарабан. Потянулись ладные купеческие домики (город был зажиточным), мелькнула река, изящно перетянутая мостом, и белая колокольня храма на прибрежном погосте. За городом открылась знакомая огромная равнина с редкими холмами и чернеющей полосой далекого леса. До Слепнева отсюда было девять верст. В родовой усадьбе, повидавшей разных хозяев, теперь утвердилась на постоянное жительство тетка Гумилева, семидесятидвухлетняя Варвара Ивановна Лампе, старшая из трех сестер Львовых. Необыкновенная красавица в молодости, Варвара Ивановна оказалась героиней любовной истории, словно сошедшей со страниц романтической беллетристики: расквартированный в уездном Бежецке лейб-гвардии уланский полк; молодой командир-улан Фридольф Янович Лампе; вспыхнувшая взаимная страсть и счастливый брак, преградой которому не смогла стать даже спесь прибалтийских аристократов, родителей жениха. После прибавления семейства лейб-гвардейский офицер, обратившись в нежнейшего мужа и отца, вышел на статскую службу, но смертельное поветрие в Царицыне безвременно сразило его, оставив безутешную вдову до конца дней носить, не снимая, траур. Судьба их дочери Констанции писана уже пером желчного реалиста: мечтательная юность, московская консерватория, солидное приданое, придирчивый и неверный супруг, скучные будни, частые ссоры, трое детей. Ныне муж Констанции Фридольфовны, подполковник в отставке Александр Дмитриевич Кузьмин-Караваев, служил по Министерству путей сообщения, был в постоянных отлучках, постаревшую жену едва замечал, на выросших дочерей и сына внимания не обращал вовсе, встречаясь с тещей, ворчливо бранился. Впрочем, как можно понять, и родниться со своими, не в пример более удачливыми братьями, железнодорожный чиновник имел мало охоты[171]. По крайней мере, родовую усадьбу Кузьминых-Караваевых Борисково (соседнюю со Слепневым) он игнорировал, предпочтя провести с семейством летний сезон у добросердечной, не чаявшей души во внучках и внуке бабушки Варвары Ивановны, вместе с Гумилевыми и Сверчковыми.
Деревня Слепнево, жители которой по сей день, как и в крепостные времена, славились жизнелюбием, плясками и склонностью к «озорству» (разбою), занимала три посада на склоне холма, застроенных приземистыми домами с высокими соломенными или деревянными крышами и маленькими окнами. Поля вокруг были сплошь засеяны овсом, рожью и льном; внизу неспешно текла речка Каменка, огибая слепневский холм с юга. Барская усадьба показалась на вершине холма. Большой помещичий дом стоял между фруктовым садом и буйным парком, над зеленью которого возвышался приметный с любой стороны единственный дуб-исполин, помнивший, вероятно, еще свирепого князя-воеводу Милюка. У заблаговременно растворенных «воротец» перед въездом с проселка на деревенскую улицу стоял в ожидании награды белобрысый и босоногий страж. Гумилев протянул ему конфету, и шарабан, пропылив по деревне, живо достиг ворот усадьбы.
Оставив молодого барина перед теплицей и огородами у бокового крыльца (парадным, с цветником и курдонером, на который вела из парка липовая аллея, пользовались только при большом съезде гостей по праздникам), кучер погнал ветхую колесницу к каретному сараю. Дом уже просыпался. Вышедшая Анна Ивановна, увидев Гумилева одного, удивилась, а узнав в чем дело, заметно расстроилась. После майского известия об отчислении младшего сына из университета (пропустив учебный год, Гумилев, даже не заикаясь об экстернате, сам написал прошение), она изменила своему обычному добродушию, недовольно косилась на вечно витающую в каких-то облаках молчаливую невестку, была необычно глуха к рассказам о путешествиях и литературной жизни и таяла, лишь когда Дмитрий и Николай – один в обнимку, а другой за ручку – ходили с ней взад-вперед по гостиной, подшучивая друг над другом (в семье это называлось «уютным кустиком»). Выходка Ахматовой была вдвойне неприятна среди установившегося в жизни всех, съехавшихся в усадьбу семейств патриархального благочиния, которое строго поддерживала помнящая старые добрые времена Варвара Ивановна Лампе.
Поднимались в восемь, в девять завтракали, расходились затем по делам до обеда – в два часа дня. В четыре часа чаевничали с пирогами или домашним печеньем, а в семь был ужин. Прежде чем сесть за стол, все ждали, пока не займет место старшая в семействе. Варвара Ивановна нарочно гримировалась под Екатерину Великую и очень любила, когда ее сравнивали с императрицей. Вокруг и впрямь был один XVIII век с редкими вкраплениями минувшего XIX: невообразимый диван красного дерева, гнутые стулья, кресла, обитые траченным бархатом или плюшем, аллегорические гравюры и царские портреты по темно-синим стенам, большие лампы с богатыми хрустальными подвесками, библиотека с подписными изданиями державинской и пушкинской поры, зала с фисгармонией и гигантская золотая узорчатая клетка с зеленым попугаем, которого местные крестьяне именовали «заморской птицей». Многочисленная, также на старый лад, слепневская дворня почтительно стояла у дверей. За столом младшее поколение не имело права начинать разговор, а в послеобеденное время, когда старшие отдыхали, старалось не шуметь и не затевать игры в парке. Прочие же часы разрешалось устраивать каждому по своему произволению – к услугам помимо библиотеки, фисгармонии и допотопной роскоши слепневского экипажа были верховые лошади (хотя, конечно, не такие, как при старом барине Льве Ивановиче), крокет, столб с «гигантскими шагами» и лаун-теннис. Гумилев, отдавая дань всем развлечениям, завершал очередное «Письмо о русской поэзии» для «Аполлона» и заполнял новыми стихами альбомы кузин Кузьминых-Караваевых.