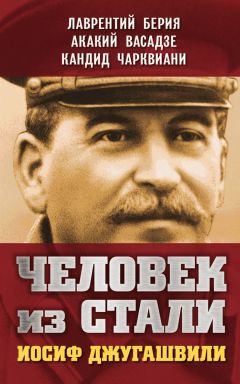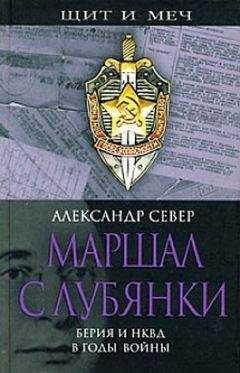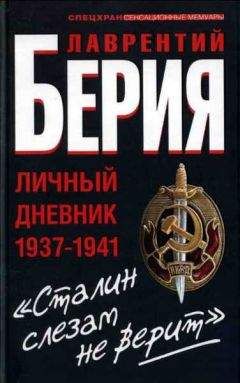Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело
– Вам лучше знать, милостивый государь, умер ли для Вас символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет!
Всегда отрешенный взглядом от собеседника, Иванов внезапно вонзил ледяное сияние глаз прямо в лицо Гумилеву. Тот, побледнев, бестрепетно выдержал. Оба были похожи на фанатичных пастырей раскольных времен, состязающихся каждый в своей правде. Гумилев весь собрался, но совладать с Ивановым было сложно: звонкий ивановский тенор покрывал бессвязные реплики наглого юнца, терзал, рвал и швырял его навзничь. В Царское Гумилев возвращался совершенно раздавленный происшедшим. Ахматова рядом посматривала то сочувственно, то насмешливо.
– Иванов, – вяло откликнулся на очередной ее взгляд Гумилев, – как и все символисты, верит в того бога, в которого он сам хочет верить. А я – просто поверил в Бога. Вот и все.
Ахматова, не склонная к умствованиям, навела разговор на печальную судьбу великого Льва Толстого, который, добравшись до религиозных тем, бросил литературу, раздавал испуганным монахам Оптиной пустыни «душеспасительные» брошюры собственного сочинения, заново перевел Евангелие и провозгласил себя единственным пророком его истин. Жена на первых порах, конечно, поддерживала Толстого в духовных исканиях, но потом попыталась объявить душевнобольным и взять в опеку. А в ноябре прошлого года восьмидесятидвухлетний старец тайно сбежал из собственного дома да и умер на полустанке под Рязанью… Гумилев устало посмотрел на Ахматову:
– Анечка, если и я вдруг начну пасти народы – немедленно отрави меня, пожалуйста.
Преображение, происшедшее с ним, совсем не искало какого-то особого выражения ни среди дружеского круга, ни среди домашних. Те замечали только, что в обиходе появились православные книги, а сам он зачастил сверх обыкновенного в Екатерининский собор. «Христос победил смерть, – провозглашал там пасхальный тропарь, – Сам воскрес из мертвых и даровал жизнь всем, пребывающим в гробовом мраке!» Священники «веселыми ногами» (как предписывает одно из правил пасхального богослужения) бегали по поющему храму, образуя среди прихожан крестный ход и подвигая исхудавшего Гумилева с трепещущей восковой свечой в руке вместе со всеми вслед за плывущими впереди хоругвями:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
И сущим во гробех живот даровав!
Между тем в части творческой Гумилев, разведя для себя религию и искусство, стал вновь очень активен и заметен. В очередном «Письме о русской поэзии» он позабавил весь литературный Петербург, поделив накопившиеся в редакции за время его отсутствия сборники стихов на «любительские», «дерзающие» и «книги писателей», выделив затем в особую группу «книги, стоящие вне литературы», а также продемонстрировав авторские типы «способных, одаренных и талантливых». Кто хохотал от души, а кто, посмеиваясь, все-таки считал «научную классификацию поэтов» выходкой хулиганской, тем более что главным образцом «книги писателя», по методике Гумилева, получался сборник какой-то никому не известной москвички Марины Цветаевой.
Гумилев вновь сидел в «Аполлоне» на Мойке, принимая и наставляя молодых поэтов. Студента-юриста Михаила Зенкевича, явившего на суд тетрадь на редкость банальных стихов, он очень заинтересовал рассказом о теории «научной поэзии» французского литератора Рене Гиля, и Зенкевич, оставив шаблонные приемы, пустился экспериментировать. Курсистку Елизавету Кузьмину-Караваеву поразил его совет: взяв перо в руку, мысленно «рисовать ковры, на которых были бы бабочки, птицы, цветы и пальмы, еще обезьянки и жирафы – все, имеющее цвет, форму, неизменное, вещи». Единственным из «аполлоновских» поэтических дебютантов, с кем он никак не мог найти общий язык, была Ахматова.
– Не следует все время писать о своих вымышленных любовных похождениях и бессердечных любовниках, это дурной вкус и дурной тон, – убеждал ее Гумилев. – Нельзя же, чтобы роковые страсти с изменами, побоями и побегами бушевали на каждой странице…
Ахматова горько жаловалась, что муж придирается к ее стихам, и оставляла все как есть. На «башне» она продолжала оставаться желанной гостьей, подружилась с Верой Шварсалон и усиленно вникала в ивановскую проповедь вакхического стихийного и беззаконного безумья как необходимого условия вдохновенного творчества:
– Наше восприятие прекрасного слагается одновременно из восприятия окрыленного преодоления земной косности и восприятия нового обращения к лону Земли… Туда, за низвергающимися, кипящими в бездонности силами, в пропасть, зияющую мутным взором безумья!.. Это царство не знает межей и пределов. Все формы разрушены, грани сняты, зыблются и исчезают лики, нет личности. Белая кипень одна покрывает жадное рушенье вод. В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола, нет разлуки пола… В ней становление соединяет оба пола ощупью темных зачатий. Эта область – поистине берег «по ту сторону добра и зла»…
Зачарованная, она возвращалась в Царское Село, где Гумилев поднимался навстречу с исчерканной рукописью:
– Вот тут, я думаю, следует выразиться точнее…
Между тем после появления стихов Ахматовой в апрельском «Аполлоне» баллада о «сероглазом короле» стала кочевать, переписанная от руки, по девичьим альбомам в губерниях и уездах, грозя заполнить собой всю Империю. Открытый вечер поэтов-дебютантов в «Обществе ревнителей художественного слова» превратился в ахматовский бенефис, где прочие участники – Алексей Скалдин, Владимир Волькенштейн, Маргарита Моравская, Владимир Пяст, Сергей Радлов – подавались как пестрый гарнир к ожидаемому всей публикой основному блюду. Впервые пережив публичные овации и восторг, Ахматова уже не владела собой.
– Вот тут, я думаю, следует поискать какую-то иную рифму…
– Ничего я не буду искать! Все равно мои стихи лучше твоих! – и выдала вдобавок все, что слышала на «башне» о невежестве и малой образованности Гумилева.
«Он страшно обиделся, – вспоминала Ахматова. – Я потом говорила, что не лучше, что хуже, что это я так сказала – но… Ничего не помогало. Он очень обиделся». Подвергнутая бойкоту на Бульварной, Ахматова ринулась за утешением и советом на Таврическую улицу. Величавая Вера Шварсалон ласково склонилась над плачущей, утешая, а Иванов, улыбаясь, с настойчивой вкрадчивостью заговорил, как трудно найти общий язык с тем, у кого слова – не эхо иных звуков, о которых не знаешь, откуда они приходят и куда уходят… Отводя душу, Ахматова раскрылась, что уже год ведет дивную французскую переписку с неким молодым парижским художником.