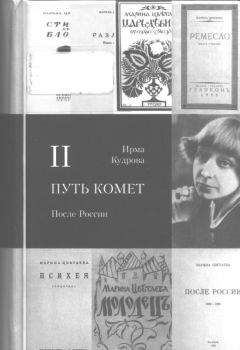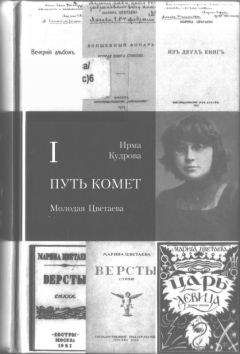Ирма Кудрова - Путь комет. Разоблаченная морока
Мир пошатнулся бы не так сильно в ее глазах, если бы ордер на арест предъявили ей самой. Но увели Алю и мужа! Тех, кто так рвался в СССР, у кого все тридцатые годы с уст не сходили слова преданности Стране Советов!
«Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость», — записывала Марина Ивановна в своей тетради. Она все еще не догадывалась (запись относится к началу 1941 года), что принимать так близко к сердцу попрание справедливости в ее отечестве равнозначно скорби об отсутствии снега в Сахаре.
Но таков ее сердечный ожог. Повторю в очередной раз: безмерная острота реакций — отличительная черта ее природного склада.
Поначалу она, видимо, хотела сделать это в маленькой пристройке рядом с сенями и даже занавесила там тряпкой окошко. Но потом передумала, потому (так считала Бродельщикова), что в пристройке обычно спали дед с внуком. И выбрала сени. В перекладину там был вбит толстый гвоздь с крупной шляпкой…
Она закрутила изнутри веревкой дверь, подставила стул…
В их комнатке на столе оставлены три письма.
Сыну:
«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело-больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Эвакуированным москвичам:
«Дорогие товарищи!
Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом — сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.
Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет. Адр. Асеева на конверте.
Не похороните живой! Хорошенько проверьте».
Георгий Эфрон. Сентябрь 1941 г.Предсмертная записка Муру
Асееву:
«Дорогой Николай Николаевич!
Дорогие сестры Синяковы![3]
Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился.
Я для него больше ничего не могу и только его гублю.
У меня в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи…
В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы.
Поручаю их Вам, берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — заслуживает.
А меня простите — не вынесла.
М. Ц.
Не оставляйте его никогда. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас.
Уедете — увезите с собой.
Не бросайте».
И теперь можно уже сказать, что все три версии гибели Цветаевой, о которых говорилось в начале этой главы, имеют под собой серьезные основания. Особенно убедительными они представляются в сочетании. В самом деле: предельно напряженные отношения Марины Ивановны с сыном, рвавшимся скорее уехать из Елабуги, подтверждены нынче записями в его дневнике августа 1941 года. Там же зафиксировано свидетельство мятущегося нервного состояния Цветаевой, истерзанной необходимостью принять решение, без совета и помощи, перед лицом разверзающейся (в ее сознании) бездны. Однако чрезмерным кривотолкам о состоянии Цветаевой противостоит запись, сделанная Муром 5 сентября 1941 года, в Чистополе, уже после трагического события: «Она была в полном здоровии (так в дневнике! — И. К.) к моменту самоубийства». Наконец, и версия Кирилла Хенкина о грубом запугивании Цветаевой со стороны оперативника НКВД приобретает дополнительную достоверность. В частности еще и потому, что, как уже говорилось, сотрудники Музея Пастернака в Чистополе обнаружили-таки в казанском архиве НКВД доносы писателей из окружения Бориса Леонидовича. То есть их вызывали и «обрабатывали» — угрозами и посулами.
Бесспорно, и без «бумажных» доказательств мы назовем НКВД прямым пособником самоубийства Марины Цветаевой.
Черное его дело началось не в Елабуге. И даже не осенью тридцать девятого года, когда арестовали Алю и Сергея Яковлевича. И не осенью тридцать седьмого, когда был убит под Лозанной Рейсс, Эфрон был убран из Франции, а Цветаеву дважды допрашивали во французской полиции. Может быть, в июне тридцать первого, когда Сергей Яковлевич отнес в советское консульство в Париже прошение о возврате на родину? Или же еще раньше: в двадцатые годы? Именно тогда в ряды русских эмигрантов были засланы первые люди в штатском, получившие задание в кабинетах ГПУ.
Но, в конце концов, не столь уж и важно, в какой именно момент паутина лжи и шантажа, затянувшая в свои сети Сергея и Ариадну Эфрон, стала смертельно опасной уже для жизни Цветаевой. Несомненным можно считать другое: нити той паутины накрепко вплетены в роковую елабужскую петлю.
Расстрелянный Гумилев, сгинувшие в лагерях Клюев и Мандельштам, поставленные к стенке Мейерхольд и Бабель…
Гордая, независимая, блистательная Марина Цветаева — в их сонме. Сонме жертв великой октябрьской социалистической.
Памятник М. И. Цветаевой в ЕлабугеПРИЛОЖЕНИЯ
1
Протоколы допросов М. Цветаевой в префектуре Парижа (1937 год)
Допросы М. И. Цветаевой осенью 1937 года в префектуре Парижа связаны с полицейским расследованием убийства, совершенного в Швейцарии (в окрестностях Лозанны) 4 сентября того же года.
См. об этом Т. 2. С. 493–509.
22 октября 1937 года состоялся первый допрос.
Цветаева вместе с сыном провела в парижской префектуре, по ее словам, целый день, с утра до вечера. Второй допрос состоялся 27 ноября того же года. Естественно, что протоколы допросов не отражают и малой доли произнесенного в тот день в стенах солидного учреждения. Тем не менее, документы представляют для нас безусловный интерес.
Текст допросов дается (в переводе на русский язык) по публикации Петера Хубера и Даниэля Кунци «Paris dans les années 30. Sur Serge Efron et quelques agents u NKVD» в сборнике: «Cahiers du Monde russe et sovietique», XXXII/2/, avril-juin 1991, p. 285–310.
<Текст на бланке:
Министерство внутренних дел Главное управление Национальной безопасности
Главный надзор службы криминальной полиции>
Дело Дюкоме Пьера [4] и других, обвиняемых в убийстве и сообщничестве.
Свидетельские показания г-жи Эфрон, урожденной Цветаевой Марины, 43 лет, проживающей по адресу:
65, ул. Ж.-Б. Потэн в Ванве (Сена).
22 октября 1937 года