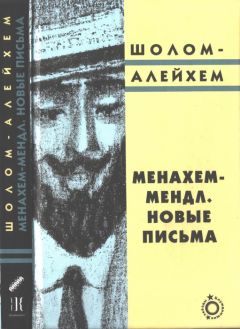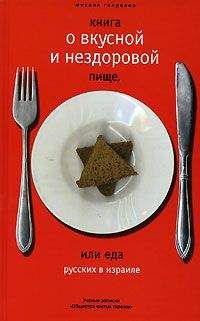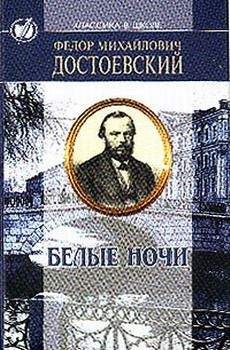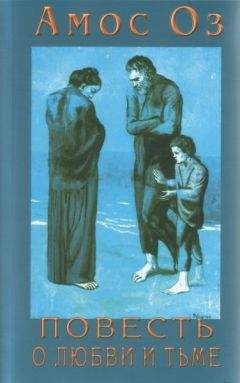Менахем Бегин - В белые ночи
При составлении рабочих бригад нас пересчитывали бесчисленное множество раз. Когда же нас вывели из лагеря, выяснилось, что пароход не готов принять рабсилу. Три дня и три ночи мы пролежали на мерзлой земле, и весь котел составлял уменьшенную порцию хлеба (мы не работали!) с холодной водой. У нас не было «прописки»: новый пункт не мог нас принять, старый нас уже не признавал. Зима была на пороге. Белые ночи кончились. Холодные, сырые ночные туманы вызывали неуемную дрожь; великолепное северное сияние каждую ночь освещало самый ужасный ад на земле.
В ночь перед отправкой начальство сжалилось над нами. Ворота лагеря, в котором мы работали, открылись, и нас повели в пустые бараки. Мы вскарабкались на нары, и они показались нам очень удобными. Наученный горьким опытом, я привязал к руке остатки своего имущества и, несмотря на ужасную вонь и духоту, уснул крепким сном.
Проснувшись утром, я хотел было нащупать свой узелок с вещами, но его не было. На руке висел обрывок веревки — все, что оставили мне урки. Теперь у меня не было ничего, кроме одежды на мне…
«… Отнимут, все отнимут, увидишь», — вспомнил я снова охранника на буксире. Он знал. Взяли, правда, в два приема, но взяли все. Страж порядка знал обычаи в исправительно-трудовых лагерях. Отнимут, все отнимут — и защиты от этого нет.
В тот же день, когда урки освободили меня от лишнего груза, мы спустились в трюм и поплыли на север. Нас было около восьмисот человек — часть из нашего пункта, часть из другого. В большинстве своем это были урки, а среди политических преобладали поляки, литовцы и эстонцы. Евреев было шесть вместе с Гариным. В трюме было, как в карцере, но теперь Лукишки показались бы мне домом отдыха.
На вопрос, как поместились восемьсот человек в трюме маленького грузового судна, могут ответить только специалисты НКВД. К мокрым переборкам трюма были прикреплены нары в три этажа, и на них вповалку лежала советская рабсила. Ни встать, ни сесть, ни шевельнуться — только лежать, лежать и ночью, и днем. Да и не отличишь дня от ночи в постоянном мраке под палубой. Так мы плыли по Печоре около трех недель. На север, на север, строить новый мир.
Пили холодную забортную воду. Почти у всех заключенных был понос. Два клозета на восемьсот человек. Эти два очка были установлены на кормовой палубе. Приходилось взбираться к ним по лестнице, очередь не прекращалась ни днем, ни ночью. Спустившись с палубы, заключенные часто занимали место в хвосте очереди снова. Охранник стоял на палубе, палец на курке, и кричал: «Давай, давай, поскорее, другим тоже надо…»
Но всего мучительней была власть урок в плавучем общем карцере. И в лагере уголовники заправляли всем: нормы, должности, вещи, места ночлега — все было в их руках. Под палубой же исчезли последние препятствия к их безраздельному владычеству.
Часовой стоит на палубе. В руках у него винтовка со штыком. Он охраняет рабсилу, следит, чтобы никто не сбежал, не покончил жизнь самоубийством, бросившись в зеленую воду Печоры. В трюм он не спускается… Боится… И не без основания. В трюме людям Краснобородки нетрудно окружить часового, оглушить его ударом по голове, отнять винтовку, прикончить. Нет смысла жаловаться часовому, что тебя избили, ограбили, отняли кусок хлеба — он не захочет и не сможет вмешаться. Он наверху, урки внизу. Пожалуешься — тебе же будет хуже. На этапном пароходе советский закон кончается у входа в трюм, где начинается власть урок.
В этапе не работают, времени свободного много. Основное занятие — карты; они запрещены правилами тюремного распорядка, но допущены воровским уставом. На что играют? На деньги (у них всегда водятся деньги); на краденые вещи (однажды я увидел на перевернутой бочке, служившей столом картежникам, свои перчатки, увидел и промолчал); на ботинки (которые во время игры могут быть на ногах какого-нибудь несчастного интеллигента): часто играют на пайку.
Игра в карты не всегда кончается миром. Кто-то проиграл. Кого-то надули. Того обвиняют в шулерстве. Этого бьют. Вот урка схватился с другим. Одна банда против другой. Брань, удары. Глаза наливаются кровью, предвещая убийство. После этого — братание, рукопожатья. Нежные ругательства, дружеские проклятия. Драка кончилась. Ссора исчерпана. Начинается подготовка к новому совместному ограблению.
Урки умели и развлечься. Была веселая игра «в вошки». Мы отвыкли от чистых рубах и привыкли к рубахам со вшами. Все дело привычки. Не зря из лагеря в лагерь по всему Советскому Союзу несется слово «привыкнешь». Не следует цепляться за устаревшие навыки цивилизации. Чистить зубы? Если нет зубной щетки (урки украли) — отвыкнешь и от чистки зубов. Руки мыть? Если нет мыла и даже воды — будешь есть грязными руками. Вши? Только первый раз ты взбунтуешься, выйдешь из себя и со страхом спросишь: «Куда я попал?» А потом ты привыкнешь к ним, они привыкнут к тебе. Будешь жить с ними, и от этого желание жить не уменьшится.
Урки собирали своих вшей целыми пригоршнями и пускали, через щели в нарах, на наши тела, головы, лица. «Как подарочек?» — смеялись они сверху жутким нечеловеческим смехом. Еще более мощный взрыв хохота вызывал удачный маневр — сунуть «подарочек» прямо под рубаху ненавистному интеллигенту: «Ха-ха, пусть погреются, бедные, под мышкой у интеллигента, пусть немного погреются…»
Эту атмосферу зловония и мрака, издевательств, страха и угроз с трудом выдерживал измученный Гарин, бывший заместитель редактора «Правды», с вершины власти попавший в царство урок, среди голодных, больных, униженных рабов.
Как-то днем (или ночью?) Гарин, лежавший возле группы еврейских заключенных, попросил разрешения прилечь рядом со мной. Мои соседи сколько могли подвинулись, освободили ему место на нарах. Гарин лег рядом со мной.
— Они хотят убить меня, — зашептал он мне на ухо.
— Кто хочет вас убить? О чем вы говорите? — удивленно спросил я.
— Они хотят урить меня. Я пропал. Урки хотят меня убить. Вы не знаете, что случилось… Вчера я поднялся на палубу, чтобы пойти в уборную. У выхода меня схватили урки (я думаю, они из банды Краснобородки), оттащили в угол и потребовали, чтобы я отдал им свои деньги. Я сказал, что у меня нет денег, они не поверили и обыскали. Ничего не нашли. Потом избили меня, пинали ногами. Им известно, — сказали урки, — что у меня есть деньги, и я их просто спрятал. Если не принесу в следующий раз, меня убьют. У меня действительно было триста рублей, я привез их из Томска. Помните, я вам рассказывал? Весь день я лежал, никуда не выходил. Но вечером я должен был выйти. Не мог сдержаться, не мог. На палубу подняться боялся, знал, что меня караулят. Но выхода не было. Я повесил мешочек с деньгами, как обычно, на шею. Думал, может быть, больше не тронут. Но на случай, если снова схватят, лучше иметь деньги при себе. Я не могу выдержать побои и не хочу, чтобы меня убили. Они меня ждали. «Принес?» — спросил один из них. Собственными руками я развязал мешочек, вынул деньги и отдал им. Они потянули мешочек изо всех сил, и веревка порвалась. Они искали в мешочке, но там было пусто: я не оставил себе ни рубля. «Это все? — спросили они. — Больше у тебя нет?» «Больше нет, — ответил я. — Можете, если хотите, обыскать нары». Они засмеялись и дали мне подняться на палубу. Я с трудом двигался.