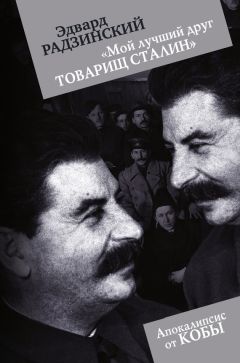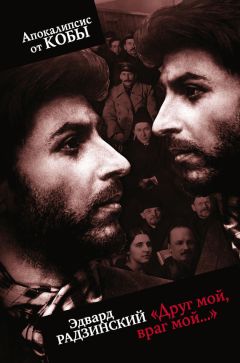Эдвард Радзинский - Иосиф Сталин. Гибель богов
Лязгнул засов, и снова появился охранник.
– Для крикунов у нас есть карцер. В последний раз!
– Простите, товарищ.
Погрозив, охранник ушел. Обычно не грозили – делали. Но, видно, таков был приказ. Однако несчастный не мог заснуть. Разбудил меня под утро:
– Простите. Странный был сон. Даже не сон, а видение – наяву… Я ему напишу, ему будет интересно. Я видел его Надю. Покойница подошла ко мне вплотную, села на койку и говорит: «Что же это такое? Что сделали с вами, Николай Иванович? Я Иосифу скажу, чтобы он вас взял на поруки». Это было совсем реально… Вы расскажите ему, что я не придумываю… она приходила, чтобы он взял меня на поруки. Я знаю, что Надя не поверила бы, будто я против него что-то замышляю, и оттого мое подсознательное «Я» вызвало этот бред. И все-таки я уверен, что вы от него. Я заметил – вас мало допрашивают… – (Меня вообще не допрашивали. Я просто писал отчеты в кабинете Свердлова о бухаринских монологах. Подписывался и возвращался в камеру.) – Вы все-таки его посланец? Не отвечайте, не надо. Дайте мне надеяться, скажите ему, что я весь его. Я стихи сочинил о нем. Он и вправду Гималаи… Мы должны быть счастливы, что такой непреклонный нас ведет. Мне кажется, ему не передают мои письма… Вы расскажите ему, как я с ним часами разговариваю. Если бы он видел сейчас всю мою расклеванную и истерзанную душу! Если бы он видел, как я к нему привязан, как я люблю его… Но здесь нет ангела, который отвел бы меч Авраама и не дал бы умереть от меча отца его сыну Исааку! Роковые судьбы должны свершиться! Передайте ему мою самую важную просьбу. Я написал ему, но боюсь: вдруг не передают, а это вопрос жизни и смерти… Первое. Мне легче тысячу раз умереть, чем пережить предстоящий процесс, я просто не знаю, как я совладаю с собой. Я готов на коленях умолять его, чтоб этого не было! Готов забыть стыд и гордость! – Он плакал, несчастный, раздавленный человек, и шептал: – Но он вряд ли согласится. Ибо уже невозможно… Я должен выполнить задачу, я обещал ее выполнить. Но я прошу его дать мне умереть до расстрела, я заклинаю его всем, что ему дорого, заменить расстрел ядом. Я сам выпью яд в своей камере. Ведь это последние минуты. Он же знает – я не преступник. Дайте мне провести последние минуты как я хочу, сжальтесь! – Он умоляюще смотрел на меня. И вдруг сказал еле слышно: – Но еще лучше… убейте меня, когда засну!
Глаза безумные… У меня до сих пор подозрение, что ему что-то подсыпали в это самое варенье во время допросов. Все та же наша могучая лаборатория Х. Потому что именно после допросов он бывал чудовищно возбужден и некоторое время обращался ко мне, как к Кобе. А потом приходил в себя…
– Скажите ему. Он знает меня хорошо, он поймет: я иногда легко смотрю в лицо смерти ясными глазами, а иногда бываю так смятен, что ничего во мне не остается. Так что, если мне суждена смерть, я молю Иосифа о чаше Сократа… Он знает, я любил афинянина… Дайте мне умереть, как он… И второе… нет, это первое: я должен проститься с женой и сынишкой до суда. Я боюсь, если я всё не объясню ей, мои домашние могут покончить с собой от неожиданности… это я уже говорил. Я как-то должен подготовить их к этому. Мне кажется, это в интересах дела. Если не выйдет свидеться, о чем я думать даже не хочу… навестите мою жену и скажите, что я до последнего вздоха любил ее. Милая моя Аннушка. Ненаглядная моя! Пусть натянет все струны души, не даст им лопнуть… Скажите, что при всех исходах суда я ее увижу после суда, смогу поцеловать дорогие мне руки. Так обещал мне Андрей Яковлевич… – (Свердлов). – И напомните ей о Камиле Демулене… Иногда мне кажется, что в меня переселилась его душа… Смешно, свидетелями на свадьбе Камиля и Люсиль были два его друга, два великих революционера Бриссо и Робеспьер. После революции Демулен и Робеспьер отправили на гильотину Бриссо. Потом Робеспьер отправил туда же Демулена и Люсиль, а потом поехал сам – все на ту же гильотину… Неужели все для того, чтобы пришел Наполеон? – Он остановился, спохватился и торопливо сказал: – Нет, ничего этого ей говорить не надо, иначе выйдет, что я не разоружился, как обещал! Лучше передайте ей стихи. Я сочинил для нее – подражание Данту. – И он начал читать… но заплакал. Потом успокоился, прочел до конца:
Нет тебя прелестней, друг мой милый,
Все умчалось вдаль.
Одинок скорблю я, сумрачный, унылый,
На душе печаль.
Монотонны стуки дробные по крыше
Капель хладных слез.
Мокрый лист кленовый выше, выше
Хмурый ветер нес.
Голые уроды, два ствола ветвями
Жалобно скрипят.
Это два скелета мертвыми костями
Трутся и гремят.
Милая, родная! Я к тебе взываю —
Приходи скорей!
Моему страданью нет конца и краю,
Сядь и пожалей.
И он протянул мне листочек со стихами.
– Передадите ей! Расскажите Кобе, что я готовлюсь душевно к уходу из земной юдоли. Но нет во мне по отношению к нему, и к партии, и ко всему нашему великому делу ничего, кроме безграничной любви. И я его мысленно обнимаю… – И добавил вдруг с ненавистью: – Скажите, что он потерял во мне одного из способнейших своих помощников, воистину ему преданного.
Он так и не понял: Кобе не нужны были способнейшие. Ему нужны были исполнительнейшие.
На следующий вечер меня, как всегда, вызвали к Свердлову. Я написал очередной отчет. Он прочел, сказал:
– Все, что вы пишете, Бухарин излагает почти дословно в письмах к товарищу Сталину. Может, он попросту тренируется на вас перед тем, как писать?
– Он не просто пишет. Он плачет от любви к товарищу Сталину.
– По-моему, вы вслед за мной полюбили Николая Ивановича, – и Свердлов засмеялся.
Расстрел
Когда я вернулся в камеру, Бухарина не было – его увели на допрос.
Я поспешил заснуть, пока он не налетел с очередным монологом. Но кто-то толкнул меня. Я открыл глаза…
У койки стоял выводной:
– Одевайтесь!
Потом все было как во сне. Меня вывели во двор. Там стоял тот же «черный воронок». Выехали через задние ворота на Малую Лубянку… И уже вскоре машина резко затормозила. Я понял: мы подъехали к Военной коллегии Верховного суда, она размещалась совсем рядом, на улице 25 Октября (бывшей Никольской, как ее по-прежнему называли старые москвичи).
Это значило: привезли на приговор. Как правило, здесь давали «вышку». Машина развернулась и поехала задом. Когда меня вывели, я увидел, что она въехала в подворотню и всю ее закрыла кузовом. Так берегли привезенных от посторонних глаз…
Вся процедура заняла минут десять. Поднялись на второй этаж, вошли в небольшую залу. Здесь за столом сидел хорошо знакомый мне старый партиец, армвоенюрист товарищ Ульрих, рядом с ним – двое незнакомых. Я поздоровался с Ульрихом, он вежливо ответил. После чего поднялся и устало прочитал постановление: «К расстрелу». И вежливо попрощался.