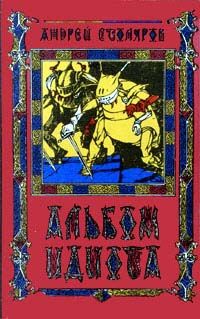Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
– Вы не имеете права бросать композицию.
Я стал брать уроки у композитора Карпова. Он жил напротив Селезневских бань в комнате меньше нашей, с молодой женой, детской кроваткой и пианино. Ко мне Карпов отнесся трезвее:
– Ничего, кроме творческой инициативы.
Как бы там ни было – какое блаженство идти по весеннему солнышку, отгородясь от толпы папкой с нотами, и мечтать!
В области сугубой реальности новой жизни способствовало окончание семилетки. Всех, кто думал учиться дальше или не попал в техникум – техникум был в цене, – отправили в Марьину Рощу. Вряд ли это было бы безобразнее семилетки, но и благообразнее быть не могло.
На мое счастье, директор 254-й, старый Иван Винокуров выговорил себе в районо отличников из семилетки. Я попал в стабильную школу почти с традициями: с довоенных лет было известно, что Иван провинившихся долбит ключом по темечку.
В 254-й я уже учился – в холоде/в тесноте сорок третьего – сорок четвертого, больше болел, чем учился. Здесь мама пыталась меня свести с Вадей Череповым – из хорошей семьи – он был в параллельном классе.
И теперь в параллельном классе был Вадя Черепов. Мы сошлись с ним, не помню как – без посторонней помощи.
Вадин отец, без пяти минут граф, окончил Пажеский корпус и очутился в Конной Буденного. Иронически, в начале тридцатых, Буденный попал под его опеку: из командарма хотели сделать свадебного дип-генерала. Бывший дворянин тщетно обучал бывшего рубаку манерам. Надо думать, Черепов отличался от Буденного еще тем, что был военным-профессионалом: всю войну, не ночуя дома, он провел не то в ставке, не то в генеральном штабе.
Меня встретил добродушный корректный полковник в отставке, с широкими лычками поперек двух просветов. Говорил он, посмеиваясь, очень ровным тоном:
– В ЦДКА разносили роман Гроссмана. Один оратор не мог пережить, что героиня наклеивает фотографии на паспарту: где это видано, чтобы так обращались с нашим советским паспортом?
– Двенадцать стульев – это зубоскальство, глумление над несчастными.
– Мейерхольд погиб под трапецией с голыми боярами.
– Интеллигенция – прослойка между рабочим классом и крестьянством. Разница между рабочим классом и крестьянством стирается, стирается и прослойка.
– В тридцатом году в немецком журнале была карикатура: голый мужик прикрывается капустным листом: Kohlhose.
– Дзержинский не умер от туберкулеза, он застрелился из-за растраты.
– Столыпин – последний, кто мог бы предотвратить…
– У Николая Первого были задатки Петра…
Непонятно, как это не пресекала Вадина мать. Она нигде не работала, зато так активничала в родительском комитете, что получила медаль За трудовые заслуги – чего, вообще говоря, не бывает [35]. В идеал она возводила военное:
– Вчера заходили мальчики Ивановские, суворовцы – вежливые, подтянутые – смотреть приятно!
Вадя жил в готическом особняке, в квартире предков. Череповы занимали анфиладу из трех маленьких проходных комнат, в четвертую, изолированную, им подселили пролетария-стукача. Квартира на удивление сохранилась: дубовые панели на стенах и потолках, над дверью в коридор – витраж, метерлинковские девы [36].
У Череповых были дореволюционные пластинки, две туго заставленных полки под граммофонным столиком: Шаляпин, солист императорских театров Виттинг, Варя Панина, протодиакон Розов.
В книжном шкафу готическим золотом догорали немецкие собрания сочинений: Шиллер, Гёте, Кернер, Вагнер. Глухими заборами отпугивали сталинские подписные: Горький, Алексей Толстой, Новиков-Прибой. Из нижнего угла я извлек огромную, без переплета антологию Ежова-Шамурина – такую в тридцать седьмые сожгла сумасшедшая тетка Вера. Вадин Ежов-Шамурин жил у меня месяцами, благодаря ему я со временем перестал путать Мандельштама с Мариенгофом и Цветаеву с Крандиевской.
У Вади я брал лейпцигский однотомник Достоевского. Мама предупредила:
– Хадось! Ужасы такие – прямʼ читать жутко. Патология.
Патологией меня только что – нешуточно оскорбил Толстой: Крейцерова соната. Дьявол. Фальшивый купон. Достоевский после него показался оазисом. Самое здоровое целебное чтение – роман Преступление и наказание.
Лет десяти, услыхав о пошлости Чарской, я прочитал Княжну Джаваху – и ничего, вроде Школы в лесу. Классе в восьмом-девятом, узнав о гнусности Арцыбашева, я прочитал Санина – Вадя прочитал, Дима прочитал – из-за чего шум? Чем Лев Толстой возмущался? Сам-то хорош!
С почтением, переживая, я усвоил На западном фронте без перемен. Когда мне в руки попало Прощай, оружие, я счел его не достойным упоминания.
Естественно, мы с Вадей терпеть не могли того, что проходят в школе и за что дают сталинские премии – от Слова о полку и Онегина до Поднятой целины и Белой березы. Это была бессознательная защитная реакция. Стоило нам пуститься в высокоумные рассуждения, как мы впадали в то самое, от чего убегали:
– Все великие современные поэты – Арагон, Элюар, Хикмет, Неруда – за коммунистов. Что бы это могло значить?
Арагона, Элюара, Хикмета, Неруду хвалили, но не печатали. Других зарубежных – тем более. Для нас западная поэзия кончалась на киевском Чтеце-декламаторе, то есть году на двенадцатом, Отечественная – на Ежове-Шамурине, то есть на двадцать пятом.
Вадиной высокой словесностью были Фауст, Жером Куаньяр, Словарь прописных истин; моей – все те же Мертвые души, Облако в штанах, Хулио Хуренито и новооткрытый Громокипящий кубок. Мы с радостью сходились на Бегущей по волнам, с восторгом – на Оскаре Уайльде.
Образ нашей взаимонайденности: мой любимый ботанический сад, мы пришли на затаявший снег дегустировать Ночную фиалку, в которой ценили начало, – и славить Верлена, которого почти не читали. Дурея от тлетворного духа, мы обговаривали лорда Горинга, бенберирование и предисловие к Дориану Грею:
Ненависть девятнадцатого века к реализму – ярость Калибана, видящего в зеркале свое отражение.
Ненависть девятнадцатого века к символизму – ярость Калибана, не видящего в зеркале свое отражение.
Кино было для нас буквальным окном в Европу. В прокате мизер советских фильмов выгодно дополнялся массой трофейных и купленных. Мы регулярно ходили в Форум, Уран, Перекоп, открытой душой принимая
– яркие краски —
немецкая Индийская гробница [37],
французский Скандал в Клошмерле,
– сильные чувства —
американский Побег с каторги,
американский Мост Ватерлоо,
– добрые чувства —
американский Во власти доллара,
французский Адрес неизвестен,
– упоительную музыку —
я уже говорил о немецких с Джильи и Яном Кипурой. В новом финском Песни скитальца была мелодия шире арий Пуччини, шире Жатвы Чайковского, ши-ре Второго концерта Рахманинова – о песне такой широты я мечтал всю жизнь.
Геббельсовская антиамерикана или Девушка моей мечты [38]нас с Вадей не трогали – равно как американский Тарзан.
Дима присоединился к нам, когда на экранах возник неореализм:
Рим – открытый город (мне просто не понравился),
У стен Малапаги (все были в восторге, я не оценил),
Похитители велосипедов (я тоже пришел в восторг: замечательно, а непонятно, как сделано).