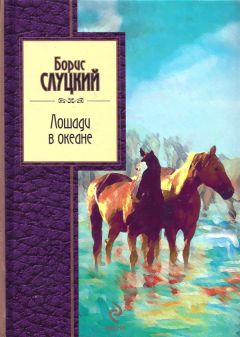Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
Эта его природная доброта вкупе со склонностью к лидерству влекла к молодым, начинающим — не только поэтам, но и скульпторам, художникам, графикам. Константин Ваншенкин вспоминает, что Слуцкий как-то познакомил его «с молодыми скульпторами Вадимом Сидуром, Владимиром Лемпортом, Николаем Силисом.
— Вижу, что не запомнишь, — улыбнулся Слуцкий, — но я скажу так, чтобы запомнил:
Лемпорт, Силис и Сидур
Ехали на лодке.
Мы вместе побывали и бывали в их общей, расположенной в подвале мастерской. С той поры у меня сохранилось несколько их работ…». Ваншенкин встречал в квартире Бориса Илью Глазунова, писавшего портрет Слуцкого. На портрете Слуцкий показался Ваншенкину слишком монументальным, сановитым и напыщенным. Ваншенкин сказал об этом художнику.
— Я хочу показать здесь его твердость, большой талант, глубину натуры Бориса Абрамовича.
Сам Борис ничего не говорил. Потом отвел Ваншенкина в сторону и спросил, не желает ли он заказать Глазунову свой портрет. «Дело в том, что художника нужно бы поддержать…»[137]
Однако ближе Слуцкому были совсем другие художники. Владимир Огнев вспоминает, что из троицы скульпторов, к которым относился дружески, Слуцкий особенно выделял Сидура. «Молчаливый крик фигур Сидура, их героическое начало, упрямо-прямая линия к цели, лаконизм формы, обобщенность образа — идеал Слуцкого». Сидур, прошедший фронт, искалеченный в бою, мужественно прошедший путь испытаний и, несмотря на все, оставшийся оптимистом, был Слуцкому сродни.
«Как искусствоведу мне было ясно, — вспоминает Лев Мочалов, — что поэзия Слуцкого во многом созвучна заявившему тогда о себе в живописи “суровому стилю”: творчеству В. Попкова, Н. Андронова, П. Никонова. Борис Слуцкий любил живопись и интересовался моим мнением о том или другом художнике. Однажды спросил: “Как вы относитесь к Глазунову?”… В свое время меня привлекали его ранние графические листы… Но последующие работы настораживали: я не находил в них серьезного отношения к своему, как говорил Врубель, “специальному делу”, о чем и сказал Слуцкому. “Да, — возразил он, но у него есть страдание”. Все же постепенно художественные пристрастия Слуцкого сместились в сторону Павла Кузнецова, Михаила Ларионова… Первому он посвятил стихотворение. Работа второго появилась в его доме»[138].
Галина Медведева вспоминает, как «однажды встретились на выставке художников-нонконформистов в каком-то захудалом клубе на шоссе Энтузиастов. Открыта она была, по-видимому, по недосмотру надзирающих инстанций, и ее торопились посмотреть: информация передавалась из уст в уста. Борис Абрамович живописью интересовался, покупал работы непризнанных авторов. У него дома было приличное собрание, помню кое-что из А. Зверева, В. Лемпорта, Н. Силиса, много Ю. Васильева. Так что его появление на вернисаже не было случайным. Он уже окончил просмотр, когда я пришла. Однако прошелся со мной вместе, советуя обратить внимание на Оскара Рабина. Мне же милее его барачных фантазий были мозаики и натюрморты Д. Плавинского. Велел подумать»[139].
Вспоминаю его увлечение скульптурами Сидура, Лемпорта и Силиса, живописью Юрия Васильева, Олега Целкова, натюрмортами Дмитрия Краснопевцева.
Нередко наши прогулки по Москве заканчивались в чьей-нибудь мастерской. Чаще всего мы бывали на Комсомольском проспекте в тесном подвале скульпторов.
Их работы поражали реалистичностью при полной абстрактности формы. Борис очень высоко ценил их талант и немало сделал для расширения их известности. Как мог помогал художникам. Однажды мы пошли с Борисом к Краснопевцеву смотреть его натюрморты. Борис предупредил меня о тяжелом положении художника, и мы оба приобрели у него по картине.
В почтении, с которым относился Борис к моему тестю, человеку замечательному во многих отношениях, немало значила художественная натура Павла Михайловича Рафеса. Бориса особенно подкупало равно серьезное отношение Павла Михайловича к основному делу его жизни — биологической науке и к художественной фотографии. Борис познакомил тестя со скульпторами с Комсомольского проспекта, где тот сделал несколько интересных фотографий, в том числе знаменитую «Чужую тень», побывавшую на многих известных выставках. Кстати, к лучшим работам Павла Михайловича относятся портреты самого Бориса. Здесь сказался не только вкус и мастерство, но и понимание крупной личности «объекта». Успех можно объяснить и тем, что Павел Михайлович находился в несравненно более выгодном положении, чем другие снимавшие Слуцкого, — он мог фотографировать Бориса в непринужденной обстановке домашнего общения скрытой камерой (П. Г.).
«— Когда Борис Слуцкий, — вспоминает Александр Городницкий, — заметил мой интерес к живописи, развешанной на стенах, он спросил:
— А вы никогда не видели картины Филонова? Даже не знаете такого художника? Ну. Это позор, хотя откуда же вам его знать! Вот что, я вам сейчас напишу записку к его сестрам. Они живут в Ленинграде, на Невском. У них хранятся многие его работы. С моей запиской они вас пустят. Это надо смотреть»[140].
Об отношении Слуцкого к живописи вспоминает и В. Кардин, которому повезло побывать вместе с Борисом в мастерской художника. Как-то позвонил Борис и «спросил, известно ли мне имя такого-то художника. Я слышал имя впервые. Слуцкий посоветовал проявлять большую любознательность и предложил через час встретиться у станции метро “Кропоткинская”.
В назначенное время он ждал меня вместе с литературоведом Витторио Страда, кончавшим тогда аспирантуру МГУ. Обращаясь к нам обоим, Слуцкий строго предупредил:
— Если картины понравятся, восторгайтесь, не понравятся — вежливо молчите.
Мы двинулись по Метростроевской, через глубоко сводчатую подворотню, какие нередки в старых московских дворах, вышли на запущенный двор, по грязной лестнице поднялись на третий этаж.
Слуцкий перехватил мой смущенный взгляд и заверил, что Страда — “свой” иностранец, привыкший к перекосам нашей жизни:
— В конце концов, итальянский неореализм невозможен без замусоренных дворов и загаженных лестниц…
Художник и его жена мне чрезвычайно понравились — милая скромная пара. Картины, по преимуществу зеленоватые, модернистского толка натюрморты, понравились не шибко. Я молчал, Витторио Страда восхищался. Слуцкий солидно похваливал.
Когда вышли на улицу, он укоризненно поглядел на меня»[141].
Послевоенные свои годы Слуцкий описал в мемуарном очерке «После войны». Он был не совсем уверен в том, что потомки разберутся в его жизни, учтут послевоенное бездомовье, расставание с мечтой о «победном въезде в литературу», как писал об этом Давид Самойлов. Воспоминания Слуцкого об этих годах иронические, но за иронией пряталась боль, скрывалась попытка объяснения одной из причин той главной ошибки, которую совершил Борис Слуцкий в своей жизни.