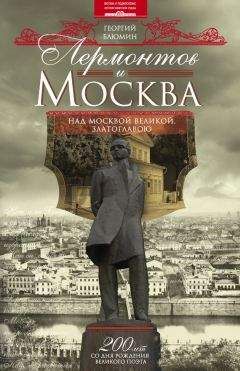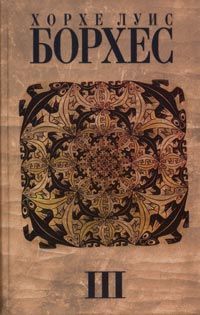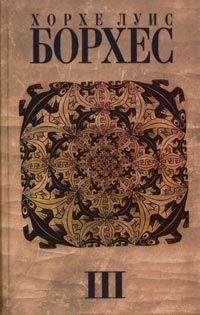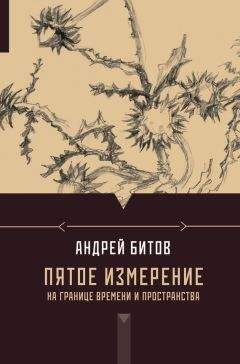Александр Волков - Опасная профессия
Рад переслать Вам ответ Прокуратуры СССР в фотокопии, из которого явствует, что участники эксперимента в «Акчи» официально признаны невиновными в злоупотреблениях, убытках и пр. смертных грехах, в которых их обвинил Минсельхоз республики и в которые поверили многие вышестоящие органы и их официальные лица.
Думается, что «Литгазета» имеет теперь все права и возможности выступить с обстоятельным материалом, направленным на восстановление эксперимента в Акчи, на публичное признание заслуг его организаторов и участников, а также полного восстановления репутации и авторитета тех, кто поддерживал экспериментаторов в тот момент, когда на них был наклеен ярлык воров и мошенников, и тем самым поставил под сомнение недальновидных, но находящихся «при исполнении»…
Воздействуйте своим непосредственным влиянием и через посредство своих знакомых на Кокашинского — для придания ему решимости и твердости духа — с тем, чтобы в ближайшее время появился в печати достойный самого события материал, который несомненно будет способствовать процветанию нашего социалистического отечества.
Желаем с Иваном Никифоровичем крепкого Вам здоровья, а также всяческих успехов в личной жизни и общественной деятельности.
С глубоким уважением, Ваш В. Филатов
13 июня 1972 Алма-Ата.
P.S. Вероятно, в Академгородке (в СО АН) скоро будет заложен эксперимент, о чем Вы будете информированы.
Это писал член строительного звена, инженер. Не надо было ни на кого воздействовать, у журналистов хватило «твердости духа», тем более у Володи Кокашинского, который, по-моему, первым или одним из первых писал об «Акчи». Но… жарким августовским днем того же года ко мне вдруг ввалился Худенко и — с порога:
— Я, считай, сбежал из тюрьмы, меня приходили арестовывать…
Звоню по телефону Ивану Степановичу Густову, заместителю Председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Мы с ним были хорошо знакомы с тех времен, когда он работал в Пскове первым секретарем обкома партии и сотрудничал с «Правдой». Рассказываю суть дела и прошу срочно принять Худенко.
Из КПК Иван Никифорович пришел не просто спокойный, а какой-то умиротворенный, расслабленный даже. Он был полный, 120 килограммов веса, сердце, видно, уже пошаливало, а в то лето в Москве стояла страшная жара. И еще висел дым, потому что во всей округе горели леса и торфяники. Помню, он снял пиджак, расстегнул рубаху, ремень, как говорят, рассупонился, снял ботинки и носки, развалился в кресле, положил ноги на стул и только тогда начал рассказ о своем визите:
— Отличный мужик Густов! Сразу все понял. Обещал помочь. Я просто, ну, совсем успокоился.
Через несколько дней я уехал в Прагу. Там и узнал, что Худенко умер в тюрьме. А к Густову я потом пытался попасть на прием, но принят не был, не знаю — почему. Уже в преклонном возрасте он покончил жизнь самоубийством, тоже не знаю — почему.
Когда мы работали в «Правде», и в голову еще не приходило, что могли творить Кунаев (на его совести Худенко!), Рашидов и другие. Замечали нечто, что нам не нравилось, но все это в нашем сознании укладывалось в рамки таких понятий, как «администрирование», «волюнтаризм», еще не появилось даже в широком обиходе «бюрократизм», которое, кстати, совершенно не отражает сути происходивших у нас процессов, как и понятие «командно-административная система», тем более не шла речь о коррупции, о мафии. Еще не были так очевидны для общественности преступный характер деятельности многих высших руководителей, сращивание преступного мира и партийного аппарата, теневого бизнеса и чиновничества.
Выше я говорил, что газета «атаковала», но уже очень скоро пришлось обороняться. Силы противников, надо сказать, были куда больше наших. Особенно ретроградскую, я бы сказал, роль играла в то время газета «Сельская жизнь», за спиной которой стояла активная группа людей, сопротивлявшихся всему новому, и чрезвычайно влиятельная. В нее входили помощник Брежнева Голиков, помощник Кулакова Заколупин, который потом стал редактором «Сельской жизни», прежний ее редактор Алексеев, заместитель заведующего сельхозотделом ЦК Панников. Такая вот была «группа торможения». Не знаю, кто из них был там главой, не знаю, кто кого направлял. Известно, что и те, кто считался теоретиками партии, ее идеологами, тормозили прогресс, вмешивались в экономику с цитатами наперевес. Просто ненавидели того же Лисичкина в отделе науки ЦК КПСС, который возглавлял злобный ретроград Трапезников.
Для нас трудность заключалась и в том, что главный редактор «Правды», испытывая все большее давление со стороны противников экономической реформы, а также высокопоставленных хранителей «в чистоте» марксистской якобы теории, по сути же сталинско-сусловских догм, постепенно начал реагировать на каждый предлагаемый нами серьезный материал все более раздраженно. Однажды, когда я зашел к нему во время беседы его с работниками из аппарата ЦК, он в шутку, но, я бы сказал, не без злости, представил меня: «Вот наш главный хунвэйбин». В то время много писали о китайских хунвэйбинах, «опричниках» культурной революции, о том, что они «не работают, а только борются», и я сказал, что если смотреть на дело с этой точки зрения, так и верно хунвэйбин: после каждой статьи «борюсь» — пишу оправдательных записок по объему в десять раз больше самих статей …
Надо сказать, мне очень помогали в этом деле заведующий сельхозотделом, а потом первый заместитель начальника ЦСУ РСФСР Павел Гужвин и начальник вычислительного центра ЦСУ Шафик Камалетдинов, позднее и Клара Ивановна Панкова из ЦСУ СССР. Когда ортодоксы и ретрограды «наезжали» на нас, я звонил нашим друзьям-статистикам и говорил: «Ребята, помогите-ка нам как следует все посчитать». Такую основательность очень любил Зародов, да и других солидные таблицы впечатляли и убеждали.
С главным редактором мы все чаще спорили вокруг статей. Сначала, надо сказать, спор носил, как правило, довольно добродушный характер. Зимянин смотрел на меня поверх очков, съехавших на нос, взгляд получался хороший, немного задорный и лукавый. Он возражал по статье, но я что-то доказывал, он внимательно слушал и чаще соглашался. Потом споры становились все более затяжными. Во время дискуссии он вскакивал и начинал ходить по одну сторону длинного стола для заседаний, что-то мне доказывая, а я бежал за ним по другую сторону и втолковывал что-то свое. Все быстрее и быстрее, все возбужденнее и шумливее, так и бегали иногда часа по три. Когда я выходил из кабинета, помощник главного подшучивал: «Сколько сегодня набегали?» Но потом дискуссии становились все более острыми, а он все более нетерпимым — по мере того, как усиливался нажим на редакцию. Настал момент, когда он однажды взял меня за шиворот и в шутку вроде бы вытолкал в коридор — не через главную дверь, а в боковой выход, к столовой: «Иди-ка там вот, в коридоре, подискутируй». Да, это была шутка, но уже стало ясно, что и не совсем, что это уже уклонение от дискуссии, даже неприятие ее.