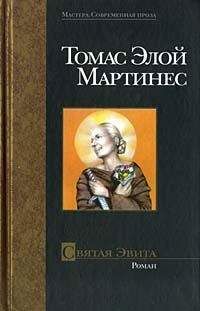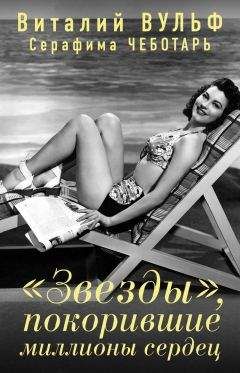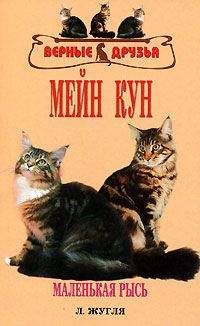Мэри Мейн - Эвита. Женщина с хлыстом
Уже было сказано о том, что интерес Эвы к социальной работе вырос из ее желания утереть нос леди из Общества благодетельниц и что Фонд Эвы Перон был не чем иным, как громадным агентством по саморекламе. И то и другое отчасти правда. Но противоречивость ее действий, вероятно, в большей степени, чем это обычно понимают, возникала из того, что она идентифицировала себя с бедняками. Негодование против социальной несправедливости, о котором она так много говорила, не было выдумкой, потому что она никогда не оправилась от горечи собственного детства. Один случай из ее театральных времен показывает, какой гнев она испытывала при виде чужих унижений, каким с легкостью могла бы подвергнуться и сама. Когда она работала на радио «Эль Мундо», несколько хорошо оплачиваемых актеров стали подтрунивать над бедной служащей из-за ее поношенного и немодного платья. Услышав их, Эва немедленно пришла в ярость, заявив им, что женщина, над которой они насмехались, намного элегантнее всех их, вместе взятых. Наверное, великое множество раз она чувствовала себя смешной оттого, что ее одежда тоже была старой и немодной. Эва хвастала, что ее социальная помощь исходит «от сердца»; но правильнее сказать, что она руководствовалась своими эмоциями.
Вскоре в кабинете Эвы скопилось огромное количество прошений, управиться с которыми было немыслимо, – она получала по восемь, десять и даже пятнадцать тысяч писем в день, – и возникла необходимость сформировать организацию, которая бы ими занималась. Именно так был задуман и образован Фонд Эвы Перон, средства которого использовались для постройки школ, общежитий и больниц, и все – с невероятным размахом. Наверное, самым претенциозным из этих сооружений был детский сад в Белграно, северном пригороде столицы, поражавший не столько размером, сколько причудливым замыслом.
Здесь, как и во всех учреждениях фонда, потенциальный посетитель должен был сначала обратиться за разрешением, затем назначалась дата визита, персонал заведения получал необходимую информацию, а к гостю приставляли специального сопровождающего. В воротах его ожидали дальнейшие формальности, разрешение проверялось, директрису информировали по телефону, и сопровождающий и охрана шепотом обменивались фразами. Выкрашенные белым ворота и стена детского сада могли скрывать за собой скорее тюрьму, нежели детское учреждение, так хорошо его охраняли. Но внутри визитера встречали со всей возможной вежливостью, его поощряли совать свой нос в любые закоулки и заглядывать в баки в прачечной, тогда как директриса, миловидная, оживленная молодая женщина, захлебывалась от восторга. «Сеньора хочет лишь, чтобы детям дали все самое лучшее. Дети должны узнать, какой прекрасной может быть жизнь. В новой Аргентине, Аргентине Перона, единственный привилегированный класс – это дети. Здесь живет около трехсот детей. Другие приходят на день. Мы принимаем детей от двух до семи лет. Это дети из самых бедных семей. И только по одному из каждой семьи, чтобы добро, которое делает сеньора, затронуло как можно больше людей». – «И ее пропаганда тоже», – добавлял посетитель, принужденно улыбаясь и восклицая, пока его водили из одной очаровательно обставленной комнаты в другую. И несмотря на веселые росписи на светлых стенах и безупречную чистоту повсюду, в душе его начинало расти чувство, что чего-то здесь сильно не хватает. Разумеется, в первой же комнате дюжина или около того малышей, все ухоженные и хорошенькие и выглядящие чересчур упитанными для детей из «самых бедных семей», играли под зорким взглядом воспитательницы и няни в форменной одежде; но во второй комнате, где дети постарше, по большей части пятилетки, как один вскакивали со своих маленьких стульчиков из-за маленьких столиков, чтобы вместе со своей воспитательницей и няней приветствовать гостя, и пели нестройным хором об Эвите и о счастье, там были куклы и игрушки, достаточно дорогие для того, чтобы им позавидовал любой маленький олигарх, они стояли в шкафах, а на столах, где сидели дети, не валялось ни одного кубика или книжки, ни карандаша, ни обрывка бумаги или хоть какой-нибудь игрушки. Доска, расположенная за спиной хорошо одетой воспитательницы и накрахмаленной няни, была чиста – ни рисунков, ни надписей, на столе перед ними ни книг, ни карандашей. Что эти ребятишки делали до того, как открылась дверь: сидели вокруг своих очаровательных столиков в белых передничках, ожидая момента, чтобы, подобно заводным куклам, вскочить, поприветствовать вошедшего и прощебетать свою песенку?
Снаружи, в крытом патио, где воды плавательного бассейна переливались зеленью на ярком солнце, чопорно взявшись за руки, парами вышагивала другая группка и еще одна стояла смирно рядком у стены, ожидая какого-то распоряжения от воспитательницы. Маленький мальчик неожиданно разразился негодующим ревом, и директриса мгновенно обернулась, словно хлыстом ударила. «Посмотрите, что с ним случилось, – сказала она одной из воспитательниц, а затем, извиняясь, улыбнулась посетителю и добавила: – Некоторые из них плачут, когда впервые приходят сюда».
Странное беспокойное чувство в груди посетителя только усилилось, когда ему показали зал, где низенькие стульчики стояли вокруг низеньких столиков и вмещали около тысячи малолетних зрителей, тогда как сцена, как мог предположить посетитель, предназначалась для одного-единственного взрослого. На каждом столе, вокруг которого располагалось восемь – десять стульчиков, сидела изысканно одетая кукла, которая казалась бы уместнее в будуаре, нежели в детском саду, и которую никогда – это было очевидно – не трогал ни один ребенок. По стенам столовой были развешаны плакаты с милыми детскими стишками; окна спален закрывали шторы, кровати были застелены покрывалами, на полу лежали ковры, а в шкафчиках висели прелестные наряды из муслина и вельвета. Пресыщенный зрелищем этой чрезмерной элегантности, посетитель уже страстно желал услышать крики по поводу поломанной куклы или увидеть на ковре заплату из грубой ткани. Но, говорят, сеньора любит во всем образцовый порядок.
Кухни – а здесь все было открыто взгляду незнакомца – выглядели настолько безупречно, что просто не верилось, что здесь, непосредственно сейчас, готовят еду для трехсот или более детей и их воспитателей. Тут не было еды даже для тех восьмидесяти или сотни детей, которых он видел своими глазами, не говоря уже о двух сотнях остальных, которые, как предполагалось, посещали детский сад; и почти с облегчением посетитель начинал думать, что слухи, которые до него доходили о том, что здесь вообще не живет никаких детей и никто сюда не приходит, кроме тех случаев, когда нужно произвести впечатление на гостя, скорее всего, правда.