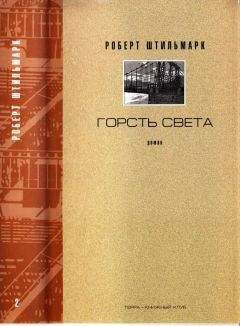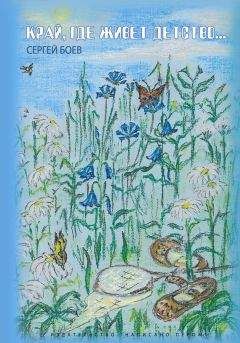РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК - ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая
Высокая, статная, хорошо одетая, она неторопливо двинулась своей плавной походкой- навстречу взбешенному командиру и в самом презрительном тоне стала бросать ему оскорбительные слова:
— Ну, что, торопишься с мальчишками воевать, а? Или меня застрелить решил? Ах ты сопляк несчастный! Ну, беги, беги, да скорее стреляй, убей мать двоих детей, которых обокрал! Стреляй, сопляк, чтобы все видели! Пусть народ на тебя полюбуется!
...Истошно вскрикнули бабы, глядевшие из окон. По-щенячьи завизжала маленькая Вика, когда бегущий, уже достигнув кромки откоса, навел свой наган на Ольгу Юльевну. Роня закрыл лицо руками, а услышав выстрел, завопил и чуть не забился в судорогах.
Он побоялся верить слуху, уловив после выстрела резкий мамин смех и еще какие-то ее слова, насмешливые и злые. Однако, и в ней самой, видимо, напряжение уже спадало... А еще слышался оглушительно громкий, быстро удаляющийся собачий визг: оказалось стрелок в последний миг дернул наган в сторону, и, чтобы сорвать злость все же на чем-то живом, послал пулю пробегавшей мимо хозяйской собаке Вольнику.
Еще двое военных с парохода взбежали по стремянке, вслед за своим командиром. Передний кивнул в сторону Ольги Юльевны, взошедшей на крылечко, и спросил командира с иронией:
— Чего же не застрелил, а?
А тот, пряча наган в кобуру, ответил как бы в оправдание:
— Да, понимаешь, рука будто сама дрогнула. Уж больно барыня хороша!
Злосчастному Вольнику, сыгравшему плачевную роль громоотвода, перебило пулей бедро и задело крестец. На другой день папе пришлось из охотничьего ружья сердобольно прекратить его мучения. А мама потом не без гордости рассказывала об этом случае...
Ронины дремотные мысли прервал папа. Поезд-максим остановился на станций Сергиев-Посад. Мальчик отрезвел от сна и стал одеваться.
Паровоз все-таки опять отцепили. Папа позвал сына на перрон. Ронино место на верхней полке тотчас же заняла Ольга Юльевна, до тех пор дремавшая внизу, на папином плече.
Отец с сыном совсем недалеко отошли от станции с ее шумами, и сразу же обоим стал внятен праздничный колокольный перезвон. Да, ведь Вербное же! После холодного еще, но уже какого-то зеленоватого утреннего дождика небо прояснело. Главы Троице-Сергиевой лавры явились богомольцам в озарении первого настоящего весеннего солнца. Роне показалось естественным, что и папа, лютеранин, снял фуражку, перекрестился по-русски и так, с обнаженной годовой, ничего не говоря, глядел неотрывно на сумрачную, уже несколько запущенную лавру и слушал ее медные голоса. Толпы народу с обеих сторон обтекали стоящих, стремились к монастырским воротам мимо приземистых посадских домиков и знаменитых Блинных рядов.
Отойти подальше от поезда было сегодня рискованно, отец с сыном так и простояли на одном месте в молчаливом преклонении Прохожая старушка, глянув в лица обоим, вдруг вернулась, подошла к ним и подарила каждому по пучку вербы-краснотала с розоватой корой и пушистыми сережками-шариками. Пучки эти доехали до Москвы и потом даже корни пустили в стакане на подоконнике.
В Москву прибыли вечером. Простились с семьей Благовых — им тоже было недалеко, московская их квартира находилась в Сыромятниках, близ Курского. Папа долго искал подводу для вещей и пролетку для семьи. В советской столице извозчиков осталось мало!
Ехали шажком, опять мимо знакомых Красных Ворот с золоченым ангелом, по-прежнему, как в добрые времена, трубящем в свою фанфару; потом — сумрачной, притихшей Покровкой, где на самом углу Земляного Вала в двух освещенных витринах выставлены были рисованные плакаты со стихами про белых генералов. Прочие магазинные окна-витрины по всей Покровке оставались темными, а во многих и стекол не имелось вовсе — их кое-как заменили деревянными щитами или просто забили окна досками.
К бывшей Артемьевской булочной, откуда, бывало, доставляли поутру в стольниковскую квартиру горячие калачи, уже устанавливалась очередь за завтрашним хлебным пайком. Толпился народ и на папертях обеих церквей в Барашевском переулке — Воскресенской и Введенской. В них кончалась вечерняя праздничная служба.
В знакомом подъезде стольниковского дома (стиль «модерн», узорные балконные решетки, цветная облицовка по фасаду), у многокрасочного витража, изображающего лягушек среди лилий-кувшинок, папа переглянулся с мамой, оба вздохнули... А тут уж горничная Люба открыла дверь, обрадовалась, побежала в комнаты.
Прямо из передней одна дверь вела в охотничий кабинет Павла Васильевича. Сбоку, как всегда, стояла вертушка для тростей и зонтов, а под вертушкой по-прежнему лежало лисье чучело, клубочком. Левая дверь вела из прихожей в гостиную и смежную с ней столовую.
Приезжие стали раздеваться в холодной прихожей, размотали шарфы, стащили с детских ног отсыревшие ботики, достали сухую обувь, причесывались долго, — а из хозяев дома все еще никто не появлялся. Потом первым из семейства Стольниковых дал узреть себя кузен Макс, По-прежнему красивый и ухоженный, похожий на андерсеновского принца с вьющимися по плечи локонами а ля лорд Фаунтлерой. Ольга Юльевна расцеловала Макса, но он еще некоторое время оставался каким-то нерастаянным, сдержанным и очень серьезным. Улыбнулся он только маленькой Вике, а Роне суховато подал руку.
В гостиной заметны стали перемены. Появилась высокая чугунная печка с никелированным орлом на чугунной крышке. Роня помнил эту нарядную печку в охотничьем имении Стольниковых на станции Мамонтовка. Значит, теперь ее перевезли сюда, обогревать гостиную. А из прежней столовой сюда же переставили обеденный стол со стульями — значит, гостиная превращена теперь в столовую, по совместительству? Оказалось, что в столовой поселился женатый старший кузен, Володя Стольников со своей худой и хрупкой Эллочкой, будто бы увезенной им из родительского дома на гоночном мотоциклете.
В квартире ощущался холод — большие голландские печи топить было нечем. Как все москвичи, Стольниковы обогревались только печками-буржуйками, а их на все комнаты не хватало.
Только в конце коридора, ведущего в глубь квартиры, приезжие увидели наконец тетю Аделаиду. В ее строгом домашнем наряде, прическе, движениях, как будто ничего не переменилось. Все та же сдержанность, достоинство, приветливость, спокойствие манер. Она двинулась навстречу гостям, но как только папа обнял сестру, в ней будто что-то надломилось и выдержка ей изменила. Тетя прижалась к папе, плечи ее стали вздрагивать, но из последних сил старалась она не зарыдать, не испортить встречи с близкими...
Вышел и дядя Паша в теплом суконном френче. Детям Вальдек показалось, что тетя и дядя за два года разлуки стали ниже ростом и лет на двадцать старше.