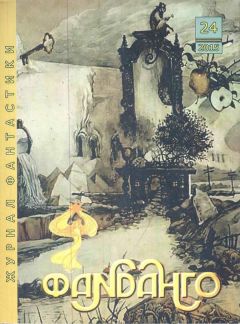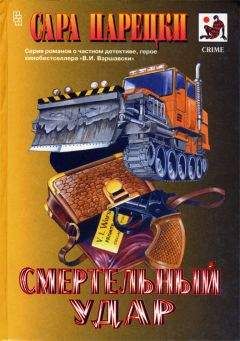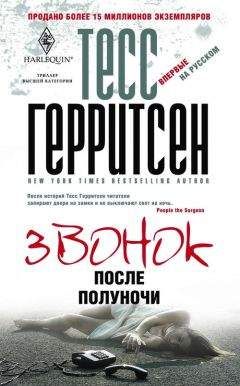Зинаида Гиппиус - Живые лица
Даже болезнь его была какая-то «нормальная», и никто себе не мог представить, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке «священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или — как Гоголь постился бы десять дней, сжег «Чайку», «Вишневый сад», «Трех сестер» и лишь потом — умер. Иногда Чехов делал попытки (довольно равнодушные) написать что-нибудь выходящее из рамок нормального рационализма. Касался «безумия» (не безумие ли Гоголь, не безумие ли черти Достоевского и даже старец Зосима, да и Толстой не безумец ли со своим «Хозяином»?), но у Чехова в таких вещах выходило самое нормальное сумасшествие, описанное тонко, наблюдательно, даже нежно и — по-докторски извне. Или же получалась — это гениально сказал про «Черного монаха» один мой друг — просто «мрачная олеография».
Так же извне смотрел Чехов и на женщину — ведь он мужчина! и в нем самом ни одной черты женской! Он наблюдает ее, исследует ее; нормально ухаживает, если она ему нравится, нормально женится. Очень показательны в этом смысле его письма (недавно выпущенные) к невесте и жене. Как все в них «соответственно», все на своих местах и как «нормально»!
Чехов, уже по одной цельности своей, — человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к «норме» и к статике, но бессловесным. Он их выразитель «в искусстве». Впрочем — не знаю, где теперь эти души: жизнь, движение, события все перевернули, и Бог знает что сделали с понятием «нормы». Ведь и норма — линия передвижная; Чехов был «нормальный человек и писатель момента», т. е. и нормы, взятой в статике.
Отступление мое, однако, затянулось. Давно пора вернуться в Венецию.
«Страшный» Суворин (он даже у «цензора» Полонского не бывал!) мне понравился. Какой живой старик![267] Точно ртутью налит. Флегматичный Чехов двигался около него, как осенняя муха. Это Суворин «вытащил» его за границу и явно «шапронировал»,[268] показывал ему Европу, Италию. Слегка тыкал носом и в Марка, и в голубей, и в какие-то «произведения искусства». Ироничный и умный Чехов подчеркивал свое равнодушие, нарочно «ничему не удивлялся», чтобы позлить патрона. С добродушием, впрочем: он прекрасно относился к Суворину.
Но было в Чехове немножко и настоящего безразличия к «чудесам Европы». У него уже имелся на них свой, чеховский взгляд. Суворин, смеясь, с досадой жаловался:
— Вот, все просится скорее в Рим. Авось, говорит, там можно где-нибудь хоть на травке полежать!
Последние дни в Венеции мы провели почти вместе. Всякий вечер гуляли по городу, потом шли пить «фалерно»[269] в роскошный длинный салон суворинских апартаментов, в лучшей гостинице на Канале. Салон этот был увешан венецианскими, безрамными зеркалами и люстрами со сверканьем стеклянных подвесок. Золотое фалерно тоже сверкало. И все были веселы. Веселее всех — Суворин. Болтал без умолку, даже на месте усидеть не мог, все вскакивал. Каждую минуту мы с ним затевали спор. Спорил горячо, убеждал, доказывал, отстаивал свое мнение и… вдруг останавливался. Пожимал плечами. Совсем другим тоном прибавлял:
— А черт его знает! Может, оно все и не так.
Меня эти его переверты, к собственному мнению презрительные, тогда просто забавляли. Лишь вдолге (мои личные отношения с Сувориным Венецией не кончились; встречались мы, положим, редко, случайно, но временами начинали переписку, довольно резкую) — лишь очень вдолге стал мне понятен глубокий душевный нигилизм этого примечательного русского человека. Талантливый, с хитрецой умный, он всего себя, черт знает почему, даже без удовольствия, душевно выпустил в трубу. По-русски.
Очень русское было у него и лицо. Как у Плещеева, как у Полонского. Но Плещеев, хоть и звал «вперед, без страха и сомненья», был настоящий русский барин, родовитый, мягкотелый, с широкой повадкой, с ленцой. В чертах Полонского — меньше добродушия; мелькало что-то, чуть-чуть, от петербургского чиновника. Настоящим чиновником, из важных, смотрел красивый, сухонький, подобранный Майков с пронзительно умными глазами. Должно быть, Тургенев имел барственно-помещичий вид: его не сохранил или не достиг слишком живой и мелочный Григорович, когда (в те годы) устроил свою прическу и бородку «совсем под Тургенева».
А у Суворина было — тоже русское, но русское мужицкое лицо. Не то что грубое, и сказать, что в Суворине оставалась мужиковатость — никак нельзя. Но неуловимая хитринка сидела в нем; и черты, и весь облик его — именно облик умного и упрямого русского мужика. Седоватая борода не коротко подстрижена; глаза из-под густых бровей глядят весело и лукаво; зачесанные назад волосы (прежде, верно, русые) еще не поредели, только зализы на лбу. Оттого, что высок — сутулится, голова немного уходит в плечи.
Моя живость, очевидно, нравилась ему, как Плещееву; но чужая молодость, чтобы самому молодеть около нее, была ему не нужна: имелся как будто достаточный запас собственной.
Вечера наши кончались тем, что Суворин и Чехов шли нас провожать в нашу скромную гостиницу. Я — впереди с Сувориным, за нами Чехов и Мережковский. Пока мы продолжаем наш спор, и Суворин горячится, и отлетают во все стороны полы его коричневой размахайки, — Чехов ровным баском своим рассказывает, что любит здесь, попозднее, спрашивать каждую итальянскую «девочку», — quanto?[270] Более подробных наблюдений, за неумением говорить по-итальянски, ему не удается сделать, так, по крайней мере, хоть узнает, до чего может дойти дешевизна. Он уже встретил одну, которая ответила ему: «Cinque»…[271]
Мы все в одном и том же купе выехали в Пизу. Дорогой спорили о Буренине.[272] Впрочем — не спорили: на все мои резкости Суворин виновато пожимал плечами и говорил:
— Да черт его знает… Нехороший человек, нельзя сказать, чтобы хороший…
Начиная с Пизы, Суворин и Чехов стали нас неудержимо обгонять. Из Пизы они уехали через несколько часов, на другой же день. Во Флоренции мы их застали на кончике — Чехову Флоренция вовсе не понравилась. Ехали марш-маршем. В последний раз столкнулись в Риме, в белой церкви Сан-Паоло. Солнечный день. Голубые и розовые пятна — от цветных стекол — на белом мраморе. Опять живой и быстрый Суворин, медлительный Чехов… Уж не знаю, удалось ли ему тут, в Риме, где-нибудь «на травке полежать»…
4Мы рассчитывали быть в начале мая уже в России. Но вот середина мая, а мы — в Париже! В новом для меня Париже, с совсем еще новенькой Эйфелевой башней, — ведь ее не так давно, к последней выставке построили. Еще и парижане к ней не привыкли.