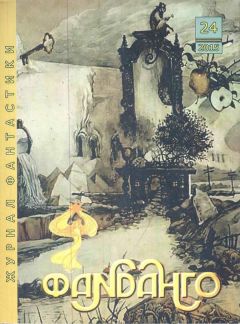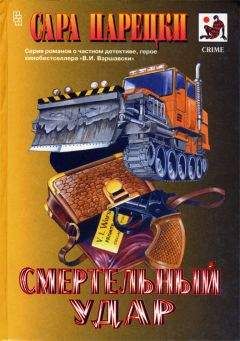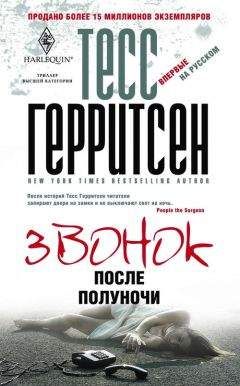Зинаида Гиппиус - Живые лица
Все ли знают, что бал этот — маскарад, «тайна» — просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица?
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю…
Какая магия в этом стихотворении! И какое волшебство — душа человеческая! Не видал лица — и лишь «казалось», что любит. Увидал — такое некрасивое (в молодости она была еще некрасивее) — и вот — уже наверно знает, что любит.
Среди толпы, то в той, то в этой комнате прохаживался, особняком, какой-то странноватый человек. Мы с ним все поглядывали друг на друга, я на него, он на меня. Не очень высокий, худощавый, походка неторопливая, зацепляющая каблуками пол. Бледный… старик? нет, неизвестного возраста человек-существо с жилистой птичьей шеей и — главное (это-то меня и поразило) — с особенно бледными, прозрачными-восковыми, большими ушами. В этих ушах было даже что-то жуткое.
Все ходит ушан, все посматривает. Ни с кем не говорит. Нет, вот остановился, разговаривает с дочерью Достоевского… Опять пошел. И возвращается. Ах, теперь они о чем-то разговаривают с Минским. Надо спросить Минского.
Но Минский затерялся в толпе и нашелся только через долгое время, когда ушан совсем исчез.
— Скажите, пожалуйста, кто это был… с ушами? Подошел к вам недавно, у окна?
— Как, вы не знаете? А он меня о вас спрашивал. Да это Победоносцев!
3Я вернусь к Полонскому, ибо помню еще одну черту в нем, не лишенную интереса, но сейчас мне хочется дорисовать милый облик все-таки первого из моих старых друзей — Плещеева.
Мы часто виделись, а если не виделись — то писали друг другу записочки и даже целые письма. Когда же летом разъехались — он на дачу, на станцию Преображенскую, мы — под Москву, переписка наша стала необыкновенно оживленной. Я как будто вижу его меленький-меленький черный почерк, на небольших почтовых листиках, по линейкам. О чем только не писал он мне! И о стихах, и о жизни, и о людях, и о даче… Но тон был всегда прелестный: никогда — как старший пишет младшему; детская и нежная шутливость, ну совсем точно не лежало между нами четыре десятка лет.
Писал о журнальных делах… И вдруг однажды такое письмо: «…скажите Дм. С-чу (Мережковскому), чтобы он не спешил искать издателя для своих двух книг и к Суворину подождал бы обращаться: я, может быть, сам их издам. Вы удивитесь, спросите, откуда у меня деньги? Дело в том, что случилась неожиданность: я, кажется, скоро буду богат, и очень богат…»
Действительно неожиданность: на голову Плещеева свалилось громадное наследство. Боюсь напутать, но, кажется, от какой-то дальней родственницы, на которую он и рассчитывать почти не мог. Наследство спорное; однако после хлопот его утвердили, и Плещеев очень быстро, со всей семьей, уехал в Париж.
В тот год, к весне, и мы с Мережковским решили съездить недель на шесть за границу — в Италию.
Это было мое первое заграничное путешествие. По России-то пришлось покататься — «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», — но Европа… ведь Европа совсем другое!
И она захватила меня с самой Вены. Венеция, первый итальянский город, так навсегда и осталась в воспоминании «самым первым городом на свете».
Мы жили там уже две недели, когда раз Мережковский, увидев в цветном сумраке св. Марка сутулую спину высокого старика в коричневой крылатке, сказал:
— А ведь это Суворин![266] Другой, что с ним, — Чехов. Когда они выйдут на площадь, я поздороваюсь с Чеховым. Он нас познакомит с Сувориным. Буренину я бы не подал руки, а Суворин, хоть и того же поля ягода, но на вкус иная. Любопытный человек, во всяком случае.
Чехова мы оба считали самым талантливым из молодых беллетристов. Мережковский даже недавно написал о нем статью в «Сев[ерном] вестнике». И, однако, меня Чехов мало интересовал: детское убеждение, во-первых, что все равно никто из теперешних не сравнится с Гоголем, Толстым и Достоевским, а во-вторых, и безотносительно — писанья Чехова казались мне какими-то жидкими. Ну, а познакомиться со «страшным» Сувориным — хотелось: и привычка к старикам, да и любопытно.
Я отступаю от моей темы, касаясь Суворина: ведь его седины — совсем не «благоухали»! Позволяю себе такое отступление ради интереса, который имеет его характерная для России личность.
Но ранее я, кажется, дерзну на еще большую вольность: скажу несколько слов о Чехове. А у него не только не было «седин», но даже чувствовалось, что никогда никаких и не будет. Не оттого, что приходила мысль о его ранней смерти. Но оттого, что Чехов, — мне, по крайней мере, — казался природно без лет.
Мы часто встречались с ним в течение всех последующих годов; и при каждой встрече — он был тот же, не старше и не моложе, чем тогда, в Венеции. Впечатление упорное, яркое; оно потом очень помогло мне разобраться в Чехове как человеке и художнике. В нем много черт любопытных, исключительно своеобразных. Но они так тонки, так незаметно уходят в глубину его существа, что схватить и понять их нет возможности, если не понять основы его существа.
А эта основа — статичность.
В Чехове был гений неподвижности. Не мертвого окостенения: нет, он был живой человек и даже редко одаренный. Только все дары ему были отпущены сразу. И один (если и это дар) был дар — не двигаться во времени.
Всякая личность (в философском понятии) — ограниченность. Но у личности в движении — границы волнующиеся, зыбкие, упругие и растяжимые. У Чехова они тверды, раз навсегда определены. Что внутри есть — то есть; чего нет — того и не будет. Ко всякому движению он относится как к чему-то внешнему и лишь как внешнее его понимает. Для иного понимания надо иметь движение внутри. Да и все внешнее надо уметь впускать в свой круг и связывать с внутренним в узлы. Чехов не знал узлов. И был такой, каким был — сразу. Не возрастая — естественно был он чужд и «возрасту». Родился сорокалетним — и умер сорокалетним, как бы в собственном зените.
«Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента», — сказал про него однажды С. Андреевский. Да, именно — момента. Времени у Чехова нет, а момент очень есть. Слово же «нормальный» — точно для Чехова придумано. У него и наружность «нормальная», по нем, по моменту. Нормальный провинциальный доктор, с нормальной степенью образования и культурности, он соответственно жил, соответственно любил, соответственно прекрасному дару своему — писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе — и грубоватые манеры, что тоже было нормально.
Даже болезнь его была какая-то «нормальная», и никто себе не мог представить, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке «священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или — как Гоголь постился бы десять дней, сжег «Чайку», «Вишневый сад», «Трех сестер» и лишь потом — умер. Иногда Чехов делал попытки (довольно равнодушные) написать что-нибудь выходящее из рамок нормального рационализма. Касался «безумия» (не безумие ли Гоголь, не безумие ли черти Достоевского и даже старец Зосима, да и Толстой не безумец ли со своим «Хозяином»?), но у Чехова в таких вещах выходило самое нормальное сумасшествие, описанное тонко, наблюдательно, даже нежно и — по-докторски извне. Или же получалась — это гениально сказал про «Черного монаха» один мой друг — просто «мрачная олеография».