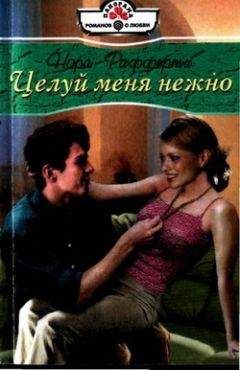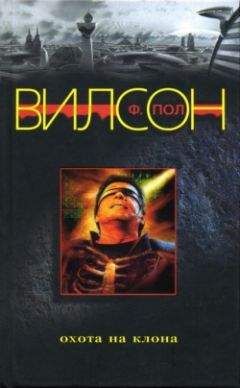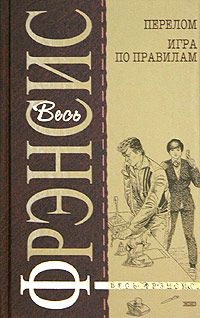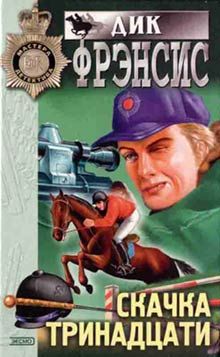Михаил Задорнов - Записки усталого романтика
Пока я пытаюсь найти сходство между масаем и древними эллинами, возвращается мой водитель...
– Копье настоящее. Они до сих пор с такими копьями охотятся на диких зверей.
Прилипшие к окнам, видя, что я очнулся, оживают, начинают говорить все сразу, как итальянцы в лифте. Словно это не затерявшаяся в веках ветвь эллинов, а цыганский табор, ведущий род от неизвестного цыгана. Водитель что-то строго им выговаривает, и они тут же замолкают. Послушание и умение вовремя замолчать явно в лучшую сторону отличает их от итальянцев... То есть, я хотел сказать, от цыган. Очевидно, что, в отличие от предыдущих, у масаев есть авторитеты! Они уважают таких африканцев, как водитель. Он в современном костюме и управляет джипом-монстром. Монстр слушается его команд, а значит, и они должны ему повиноваться.
Мы въезжаем в саванну, которую я впервые увидел на одной из трех марок.
Отступление первое... лирическое...
Зачем я приехал сюда? Да еще под Новый год? Причин было три!
Во-первых, воспоминания о трех марках. И о том, как я благодаря им выздоровел. Последние годы я жил так, что мне снова необходимо было начать выздоравливать. Причем, как и тогда, без советов отформатированного консилиума.
Во-вторых, в юности, как и все молодые люди в Советском Союзе, я много читал Хемингуэя. В то время Хемингуэя любили все: студенты, врачи, инженеры, сантехники, повара... Его читали в институтах, школах, в армии, на зонах...
Известен случай, когда в Москву по приглашению Союза писателей СССР приехал известный американский писатель Джон Стейнбек. На приеме в честь знаменитого гостя наши писатели, естественно, его напоили. Была пушистая московская зима. После приема разгоряченный русским гостеприимством Стейнбек сказал, что пойдет до гостиницы пешком – хочет охладиться, полюбоваться московской зимой. По дороге в одном из сквериков он присел на скамейку и, зачарованно глядя на падающий в свете фонаря снег, задремал. Спящего увидел милиционер, подошел, тронул за плечо... Стейнбек очнулся.
– Ваши документы? – не угадав иностранца, по-советски требовательно обратился к нему милиционер.
Стейнбек знал только одну фразу по-русски. Отпуская его в гостиницу одного, наши писатели на всякий случай заставили выучить по-русски три слова: «Я американский писатель». Что он и сказал милиционеру. И вдруг милиционер, отдав ему честь, радостно взял под козырек: «Здравствуйте, товарищ Хемингуэй!»
Милиционер проводил покачивающегося Стейнбека до гостиницы и пожелал «Хемингуэю» спокойной ночи. Стейнбек, надо отдать ему должное, не обиделся. Вернувшись в Америку, даже написал статью в газете под названием «Как я в России был Хемингуэем». Где с восхищением рассказал о советской образованной милиции. Теперь у спящего вечером на скамейке в сквере Стейнбека потребовали бы прежде всего прописку, регистрацию и отнеслись бы к нему как к лицу не совсем правильной национальности...
Коллекция первая
Одна из самых романтических и очень популярных повестей Хемингуэя называлась «Снега Килиманджаро». Это словосочетание всегда манило меня своей недосягаемостью. Мечтая о том, чтобы побывать в этих снегах, я даже придумал в молодости такую фразу: «Мечта тем и привлекательна, что она никогда не сбывается».
Итак, переходим к третьей причине. Кому-то это может показаться хвастовством, пижонством... Однако эта причина была. Если в детстве я копил марки, то со временем интересы изменились.
Например, одно из абсолютно – как теперь модно говорить – неадекватных увлечений появилось в 18 лет. Я стал копить... вулканы. Вулканы, на которых побывал! Вернее, которые я видел вблизи. Чтобы вулкан попал в мою коллекцию, достаточно было совершить восхождение на него хотя бы метров на пятьсот. Или, в худшем случае, сфотографироваться на его фоне, у подножия, прикоснувшись, как я в таких случаях говорю, к нему душою.
Тятя-яма
Открыл мою коллекцию мало кому известный, кроме японцев и жителей Курил, вулкан Тятя-яма. Находится он на самом южном курильском острове Кунашире. Шоколадной пирамидой вершина торчит из холмистого, покрытого тайгой, зеленого острова, мешая облакам свободно разгуливать по небу. Они цепляются за него и белым нимбом украшают макушку. Для меня, выросшего в равнинной Прибалтике, где горами называют холмы и большие кочки, такая картина казалась настоящим природным аттракционом.
Мне было тогда 18 лет, и я очень хотел скорее стать самостоятельным. Мечтая о независимости от родителей не меньше, чем страны Балтии в годы ослабления советской власти о независимости от России, я устроился работать в ботаническую экспедицию. Нет-нет, не ботаником! Я до сих пор не могу толком отличить клевер от куриной слепоты и герань от одуванчика.
В то время было такое слово – «разнорабочий». Если теперь это звучит почти как «бомж», то тогда, наоборот, вызывало уважение. Мол, на все руки мастер! В экспедицию я устроился, естественно, не без согласия моих родителей. Они тоже мечтали о моем скорейшем отделении от них не меньше, чем Россия об отделении от нее стран Балтии. Во-первых, я бы перестал наконец им портить нервы, во-вторых, не вырос бы домашним растением или эдакой рыбкой в мещанском аквариуме, в котором, если вовремя не засыпать корм, она погибнет или ее съедят другие рыбки.
В экспедиции был один ботаник-профессор – очень ботанистой внешности: маленький, пухленький, как плюшевая игрушка. У мальчика с такой внешностью с детства любимыми вещами должны быть не автоматы с пулеметами, а гербарии. Еще были два кандидата наук – молодые женщины. Выглядели они, как и все кандидаты наук в советское время, бедно, но гордо. Были лаборанты. Тоже типичные: с пробирками и стеклянными палочками, как у ухо-горло-носа, для взятия проб почвы. Была повар-девушка, Зоя. Очень хорошенькая. Во всяком случае, мне так казалось, может быть, потому, что я все время хотел есть. Она же меня кормила вне графика и чаще, чем остальных, что в молодости можно приравнять к завязке многообещающего романа или хотя бы повести.
Был еще один, как и я, разнорабочий на все руки, Сашка. У него была фамилия, подходящая к его худощавой фигуре, – Смычок. А фамилия одной из женщин, кандидатов наук, была Скрипка. Я понимаю, что это звучит как юмор из детского сада. Когда их знакомили в начале экспедиции, она, как старшая, протянула Сашке руку и сказала: «Скрипка!» Сашка, естественно, ответил ей честно: «Смычок!» Она обалдела и попыталась обидеться, мол, шутка старая, но глупая. Когда ей стали объяснять, что у него действительно такая фамилия, подумала, что и остальные над ней издеваются. Пришлось показывать паспорт. Зато к концу экспедиции они подружились и, как примерно через полгода написал в письме мне наш профессор, слились в одной счастливой мелодии.