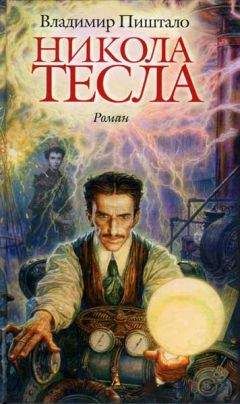Владимир Лорченков - Последний роман
Марина Постойка идет пешком на Восток, и земля крутится под ее босыми ногами. Она видит агонию немецкого сопротивления. Все куда-то бегут, зачем-то стреляют, что-то кричат, машут флагами. Никому до нее дела нет. Она слишком измождена чтобы на нее прельстились по-мужски, и слишком плохо одета, чтобы ее вздумали ограбить. Рванье сняла с трупа. Немецкая фрау с глазами синими, как у куклы отменного фарфора — Марина купит себе такой спустя несколько лет, когда снова попадет в Германию, — лежит возле дороги на свертке. Это ребенок. Он тоже мертвый, так что Марине нет нужды задумываться, как поступить, и она разворачивает фрау, как капусту. Снимает все. Одевается, и продолжает идти, прикрыв голую мертвую женщину с мертвым ребенком ветвями деревьев, и постепенно те скрываются за горизонтом, потому что земля, — по которой идет Марина Постойка, — вертится. Ночует на хуторе. Богатый немецкий хутор, с двумя десятками рабочих из Восточной Европы, и Марина думает, что здесь вполне даже прилично, и в который раз с уважением подмечает немецкую страсть к порядку. Хутор вылизан. Трудно сказать, глядя на него, что идет предпоследний день войны. Марина ночует с рабочими. Ночью приходят советские войска, и дочку хозяев насилуют до утра, — ее крики Марина не забудет до самой своей смерти. Ее и еще двух девушек ее возраста держит возле себя усатый сгорбленный серб, который велит им говорить всем, что они — его дочери. Хорошо, папа. Утром Марина снова отправляется в путь, и оставляет позади себя хутор, где измученная девчонка глядит в стену, лежа на постели, а рядом сидит ее отец, почтенный немец, и горько плачет. Рабочих-то он не обижал. Солдаты уже ушли. И приходит следующая часть, и хозяин хутора жалуется офицеру на произвол, показывает дочь, плача, и офицер обещает разобраться. Солдатам, которые снасильничали девчонку, не светит ничего хорошего, волну насилий, — поднявшуюся было над Германией, — погасили в зародыше. Сталин пожалел немецкий народ, и предложил отделять фашистов от немцев, и велел расстреливать за бесчинства на немецкой территории. Сталин Предложил. Это значит намного больше, чем если бы кто-то другой приказал. Журналист Эренбург, — призывавший вырезать немцев по принципу «око за око», — после этого не спал всю ночь, и даже подумывал застрелиться. Решил отложить. На следующий день с ним перестали здороваться в редакции, и он понял, что это конец, и твердо решил застрелиться ночью. Вечером звонит Сталин. Марина Постойка идет на Восток. Офицер части, остановившейся на хуторе, вызывает особистов, и те допрашивают девочку пятнадцати лет, над которой совершено бесчинство. Удается установить, что это были танкисты, которые останавливались здесь прошлой ночью, а дальше проще простого — найти танкистов, и выявить среди них виновных. Особист улыбается. Марина Постойка идет. Раздаются выстрелы. Что за черт. Мужчины хватаются за оружие, и выбегают на улицу, и выстрелы трещат все чаще, прямо как фейерверк в Китае, которому поразится Дедушка Третий, которого вывезут в Китай подлечиться после одной особенно жестокой американской бомбежки в Корее. Но это не война вспыхнула перед тем, как погаснуть окончательно. Это Победа!!! Мужчины заскакивают в дом, обнимаются, целуются, вечером празднуют. Победа, друзья. Особист уезжает куда-то, — вроде бы, за танкистами, — но переворачивается в мотоцикле и гибнет, потому что все были выпившие. Да и вообще, Победа же. Дело замяли. Ночью один из солдат лезет на чердак, где ночует девчонка. Он говорит по-русски, а она думает по-немецки, но это не имеет никакого значения, — она знает, что он говорит, а он знает, что она думает. Чего ты, говорит он, я же по доброму, с подарком, а тебе же уже все равно. И правда, чего это я, думает девчонка, мне же уже все равно. Берет колечко. Приподнимает подол, раскидывает ноги пошире, и безучастно глядит в небо. Мерцают звезды. Полумесяц — желтый. Мужчина сверху пыхтит и в сердце женщины, — которой она так неожиданно и нехорошо стала, — впервые просыпается жалость к мужчинам, этим странным существа, которые бьются сверху с мокрым затылком и так беззащитно содрогаются. Так что она кладет руки ему на голову и обнимает. Прижимается. Входит во вкус. Лазит на чердак все время, пока солдаты стоят на хуторе, и сама к ним ластится, так что отец перестает с ней разговаривать, ведь девчонка совсем с ума сошла. Шлюхой стала. Стрельба оглушает. Марина Постойка падает на землю, обученная самой войной, и лежит, закрыв голову руками. Вставай, глупый ты человек, кричит ей радостно кто-то сверху, и она, подняв голову, видит плачущих от радости людей, салютующих победе. День Победы! Марина Постойка встает, поджав губы, и поправляет платье. Шум, гам, и непорядок, думает она, то ли дело, как у немцев. Стремится домой. Ждет поезда. Усеянный людьми, он прибывает и Марина несколько дней спит в тамбуре, поджав ноги, отчего через пятьдесят пять лет они покроются, — как старая стена плющом, — узловатыми венами. Кровь застаивается. Марина знает, что если она встанет, то уже не сядет и не ляжет до конца пути, так что лучше ей не менять положения. Ноги ноют. На одной из станций Марина узнает, что это Украина, так что решает сойти, и дальше идти пешком, только ей говорят, что сойти можно будет только в городе. Там расспросят и домой отправят. Марина упрямая девушка, так что, когда поезд притормаживает где-то, спрыгивает на землю. Таких много. Люди как осыпали поезд, так с него и ссыпаются. Ну, словно блохи. Поезд оглушительно гудит и снова набирает скорость. Домик у путей трезвонит. Это станционный звонок. В доме журналист Эренбурга тоже звонок. Илья берет пистолет, ставит к виску, и снимает трубку. Звонили бы в дверь, сразу застрелился. Я вас слушаю, говорит он высоким от волнения голосом. Здравствуйте, товарищ Илья, говорит Сталин. Здравствуйте, товарищ Сталин, говорит товарищ Илья. Они говорят немного, и пистолет Эренбурга медленно ползет от виска вниз, к столу. Журналист ликует. Ах, как умеет говорить с людьми товарищ Сталин! Позже Илья делится этой историей с начинающим писателем Гроссманом, и тот пересказывает ее в своей книге, — только вместо журналиста у него фигурирует ученый, а вот товарищ Сталин как был, так и остался товарищем Сталиным. Как-то ее звали… Век и судьба? Зов и плоть? Что-то в этом роде, точного названия не упомнишь, книга получилась так себе, и очень сырая, и явно требовала редактора, который ее вытянул хотя бы до среднего уровня, и вроде бы как насчет редактора договорились, да только он к тексту не поспел. Зарубила цензура.
Марина Постойка идет по полям родины и глядит на сожженные леса, на пепелища вместо деревень, на ворон, кружащих у рвов и ям, и думает о том, что, — когда обзаведется семьей и детьми, — в ее доме такого непорядка не будет. Все в фарфоре. Много сервизов, много хороших вещей, совсем как в Германии, как она видела, и чтобы обязательно чайник был не простой, а в виде большого фарфорового гуся, и чтоб его надо было накрывать большим ватным одеялом. Вроде как облаком. Чтоб как у людей. В руках ее пусто. Она мещанка, но мещанка честная, ей чужого не надо, и, познакомься она с Кальвином, они бы нашли общий язык. Кальвин давно умер. И Лютер умер, и Аввакум, и вообще Бога нет, с этим Марине Постойка давно уже все ясно, и коммунисты тут не при чем, и немцы тут не причем. Бога нет, потому что это неправда, знает она, поэтому не боится идти одна ночью через кладбище, которым Украина в лето 45-го и является. Некого бояться. Так что Бабушка Третья продолжает идти по бездорожью Украины в одиночестве, и ее вовсе не тянет в дом родной, но она должна прийти туда, чтобы оглядеться и начать свой путь. Она и приходит. В семье из девяти детей ее встречают просто, но ласково, и Бабушка Третья решает, что ее путь лежит на север, — она собирает чемодан, в который кладет несколько пар чулок, которые в это село попали еще во времена чуть ли не Гришки Котовского, и прощается. Едет в Забайкалье. Там она живут вместе со своим братом, офицером Красной Армии, устроившим ее в гарнизон в библиотеку. Листает книги. Сама читать не любит, это глупое времяпровождение, — и глядит с любопытством на мужчин в форме, заходящих попросить подшивку «Советского война» или «Красной звезды». «Воин» интереснее. Но Дедушка Третий, — приехавший сюда лишь несколько недель назад, — предпочитает «Красную звезду», из которой выписывает самые интересные заметки о зарубежной политике, которой очень интересуется. Американцы, черти. Забрались чуть-ли не в к нам в подбрюшье, и творят черт-те что в этой своей Корее. Бабушка Третья решает выйти замуж за Дедушку Третьего. Ставит того в известность. Дело молодое, и офицеру следует быть женатым, так что Бабушка Третья переезжает к Дедушке Третьему, да он и правда в нее влюблен. Ходит гоголем. Молодая семья получает домик на хуторе, в нескольких километрах от гарнизона, и заводит хозяйство. Несколько кур. Появляются дети. Первой рождается дочка, назвали Ольгой, волосы у нее цвета соломы, глаза бесцветные, и она глядит пусто в фотографию, которую сделал сам Дедушка Третий, мастер на все руки, обожавший прогрессивное занятие, фотодело. Черно-белая. На девчонке — мешковатые штаны, и потертая кофточка, ну так ведь и жили тогда бедно, и более-менее прилично дети оденутся лишь, когда семья переберется в Германию. Такова практика. Несколько лет в каком-нибудь дальнем краю, у черта на куличках, а потом, если заслужишь, поедешь в Германию или Венгрию, или Польшу, или… Пока все. Сначала, правда, Дедушка Третий отправляется в Корею, за событиями в которой — а еще волновало то, что происходит в Египте, — так пристально наблюдал по публикациям в «Красной звезде». Призывают внезапно. По телеграмме отправляется в город, и уже оттуда, — не получив разрешения попрощаться с семьей, — пришлет письмо. Получает прививки. Садится в вагон со ста двадцатью китайскими добровольцами — теперь они все китайцы, и им выдают кожаные тужурки как у китайцев, зачем это при их славянском разрезе глаз, уму непостижимо, видимо, чтобы хотя бы с воздуха были похожи, — и долго едет. В пути страдают. Прививок всем поставили много, от самых разных болезней, так что на ногах к концу пути оказываются всего трое человек. Среди них какой-то парень из Ленинграда. Это все ленинградская закалка, впервые позволяет тот себе похвастаться военным училищем в Ленинграде, где пережил войну. Держится бодрячком. Дедушка Третий тоже устоял. Пишет домой письма. Те накапливаются в специальном узле связи, и раз в полгода отсылаются домой, где никто не знает, откуда корреспонденция. Жена в неизвестности. Дедушка Третий, покинувший супругу в положении, становится отцом еще раз. На этот раз мальчик, пишет жена. Папа Второй. На радостях Дедушка Третий угощает самогоном корейских товарищей, и те чинно пьют, подняв первый тост за товарища Ким Ир Сена, второй за товарища Мао Цзэдуна, третий — за товарища Сталина, и лишь четвертый — за отца новорожденного. Так принято. И лишь уже потом можно выпить за самого мальчишку. Ребенок последний. Восток дело тонкое, думает Дедушка Третий за двадцать лет до появления фильма «Белое солнце пустыни», подарившее еще одну крылатую фразу любителям цитировать кино. Ночью бомбят. Капитан артиллерии начинает вести короткие записи в краном блокнотике с золотистыми, — совершенно непонятными ему — иероглифами, выданном китайскому добровольцу, Дедушке Третьему. Китайские канцпринадлежности. Предосторожности эти довольно смешны, делает запись в дневнике Дедушка Третий, с учетом того, что американцы прекрасно знают, против кого воюют и даже рассыпают над электростанцией листовки на русском языке. Подбирает листовку. «Русские солдаты! Американское командование обращается к вам с призывом…». Тьфу ты. Дедушка Третий поправляет воротник куртки и бежит к орудиям своей кочующей батареи, потому что, вдалеке появляются силуэта американских самолетов. Поналетело сволочей. Начинается бомбежка, и Дедушку Третьего сильно бросает об землю, отчего в глазах темнеет. Суждено ли погибнуть? Не может быть, думает Дедушка Третий, ведь у меня двое детей, одного из которых я даже не видел, разве это будет справедливо? Встает, пошатываясь. Продолжает командовать батареей и день заканчивается удачно для них, и неудачно для американцев. Семеро сбитых. К одному Дедушка, — выдернув пистолет из-за ремня, — бежит через поле, мечтая успеть раньше, чем корейцы с мотыгами. Забьют ведь. Спортсмен, лыжник, участник всех соревнования в части, и победитель почти всех, Дедушка Третий успевает первым. Американец сидит в стропах. Эх ты, дурила, думает Дедушка Третий, дурила, эксплуатируемый капиталом, лучше бы ты за свои права в США боролся, и ведет радостного летчика — те всегда радуются, когда попадают к русским, это значит, что ты сорвал куш и остался в живых, — к своей батарее. Позже заберут. Дедушка Третий берет четвертьцентовик у американца и дарит тому полтинник. Объясняется на пальцах. Показывает два пальца. В смысле, двое детей. Американец кивает и вбрасывает три пальца. Ого. Похоже на «камень, ножницы, бумагу», и враги смеются. Вдалеке маячат корейцы с мотыгами, и Дедушка Третий на них не сердится, ведь американцы превратили страну в Луну. Выбомбили все. Ничего, черти, мы вам прикурить дадим, думает он, и отдает летчика особистам, уж те американца допросят и отправят в корейский лагерь, а дальше как повезет. Американец мешает рукой. Следующим утром гидроэлектростанцию бомбят так сильно и так долго, что у Дедушки Третьего отказывает слух, и вернется только через несколько месяцев. Прекращает вести дневник. Осмеливается возобновить записи, только когда может слышать, есть кто-то за спиной или нет. Хотя записи простенькие. Прилетел, улетел. Бомбили, сбили. Дадим жару, нам дали жару. Обычные фронтовые записи. Тысячей с лишним километров за спиной Дедушки Третьего бьет киркой землю другой артиллерийский офицер, его арестовали за дневник, и фамилия бывшего офицера Солженицын. Бессарабия корячится в голоде. Сталину все хуже и вот вот к нему в двери поскребется длинными и острыми ногтями мертвый Дедушка Второй. Американцы вот-вот проиграют. Свобода близка.