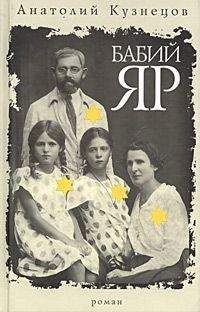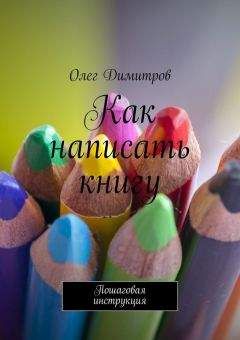Юлий Марголин - Путешествие в страну Зе-Ка
Не узкоколейка, как над Онегой, а магистраль, благоустроенная и прямая, как стрела. Мы шли вразброд по шпалам — и вот открылась справа картина большого лагпункта. За оградой колючей проволоки стояли бараки, по углам сторожевые вышки, широкая дорога к вахте, и по обе стороны ее — много зданий «за зоной». До вахты мы не дошли. Нас оставили на конец дня и ночевку за зоной в открытом поле. Это было Ерцево, по Сев. ж. д., центр Каргопольских лагерей.
По случаю окончания этапа я вынул со дна мешка заветное сокровище — остаток из посылок матери — советский «лапшовник», продукции Одесского консервного завода. Я вскипятил кружку воды на углях костра, растолок камнем прессованную плитку и всыпал ее в кипяток. Через 15 минут каша поспела. В последний раз — на долгие годы — я съел нелагерную еду и заснул сытый у затухающих углей.
На утро нас погрузили на платформы, и через 40 минут мы прибыли к месту. Колонна человек в 300 выгрузилась на переезде, за которым тянулась широкая улица. Мы шли, осматривая домишки с обеих сторон.
— Далеко идти, гражданин начальник?
— Двадцать шесть километров, — ответил этапный офицер, делая грозное лицо.
Мы повздыхали, подтянули лямки мешков и приготовились шагать до вечера. Но не успели пройти и 100 метров, как слева вырос высокий забор, знакомые ворота с надписью «Да здравствует мудрая сталинская политика!» и раздалась зычная команда: «Стой».
Мы прибыли на место.
14. Амнистия
Сангородок Крутлица занимал площадь около трех гектаров. Внутри ограды был использован каждый квадратный метр. Не было гнилого болота, не валялись неубранные пни, как на 48-м квадрате.
Вдоль бараков были проложены деревянные мостки. Под окошками кухни, где выдавали пищу, был устроен навес, чтоб не мокнуть ожидающим под дождем. А когда мы увидели перед стационарным бараком клумбу с цветами и скамью, нам показалось, что мы в санатории. Для довершения эффекта карцер был вынесен за ограду и не мозолил глаз заключенным.
Сангородок Круглица — санитарный городок — и был своего рода санаторием. Здесь находился медицинский центр ерцевских лагерей. Было тут два легочных барака, хирургический, несколько обыкновенных стационаров, аптека, зубоврачебный кабинет и рентген. Всего находилось тут человек 300–350 больных и столько же обслуги и рабочих. Не только госпитальные, но и рабочие бараки были электрифицированы и радиофицированы. При вахте, где производилась поверка, находился на открытом воздухе громкоговоритель. Слева от вахты была открытая площадка со скамьями и сценой-раковиной, как для оркестра в городском саду. Здесь устраивались летом киносеансы и выступления.
За оградой лагеря тянулся ряд домиков — поселок Круглица. Там жило человек 300 вольных. Все они кормились при заключенных, работая — кто в администрации, кто в Санчасти, кто в охране. Справа от вахты к переезду расположены были в поселке лагерные «центральные техническо-ремонтные мастерские», сокращенно называемые ЦТРМ — «цэтерэм». Тут стояли токарные станки, чинились тракторы и сельскохозяйственные машины. Бригада заключенных металлистов человек в 40 работала там; было и конструкторское бюро, и своя электростанция. — Еще дальше, при полотне жел. дороги находилась нефтебаза, торчали высокие цилиндры, резервуары, покрашенные в черный и красный цвет. — Слева от вахты по улице поселка был огороженный скотный двор, тоже принадлежавший лагерю: конюшня, свинарник и около 30 коров.
Пройдя улицу поселка, где 10 месяцев в году была непролазная грязь, мы через 5 минут доходили до «сельхоза». За оградой был обширный огород и парники под рамами, где выращивали помидоры и табак-самосад. В военные годы, когда не стало украинской махорки, этот «самосад» был единственным куревом на всю округу. Помидоры у нас не дозревали. Их солили и употребляли на лагерной кухне зелеными. До 60 гектаров было занято луком, морковью, капустой, турнепсом (кормовой репой, которой кормили заключенных), но, главным образом, картошкой. В дальнем углу сельхоза была хибарка, где заключенная птичница Анисья держала белых кур. Куры несли яйца, но, конечно, не для заключенных. В Круглице з/к состояли при коровах и свиньях, но не владели ими. Только самый незначительный процент всей сельскохозяйственной продукции предоставлялся для нужд лагеря. Остальное забирало государство.
В этом прекрасном лагпункте, где не было лесоповала и тяжелых работ, я провел три года своей жизни. Это было большой удачей. Немногим из западников удалось задержаться в Сангородке.
Нас пригнали сюда не на житье, а для медицинского освидетельствования и распределения по рабочим лагпунктам. Комиссия отобрала людей, нуждавшихся в поправке, в слабкоманду, а остальные в два дня были выведены из Круглицы.
На второй день я пошел в Санчасть. Маленький домик Санчасти находился при вахте налево. Три ступеньки, сенцы и ожидалка, откуда 4 двери вели в 4 крошечные комнатки: зубоврачебный кабинет, канцелярия и две амбулаторные приемные. Все очень бедно, но чисто. В ожидалке боченок с питьевой водой прикрыт доской, скамья для ожидающих и радиоприемник.
Я пожаловался на крайнюю слабость и сильные боли при дыхании. В движениях врача была стремительность, в глазах какие-то необычные боевые искорки, акцент — явно польский. Это был молодой варшавский хирург, д-р Шпицнагель. Не долго думая, он постановил направить меня в туберкулезный стационар. Начальница Санчасти сидела рядом, подозрительно посмотрела на нас обоих, но промолчала. Я вышел, ошеломленный своей удачей. А вдруг в самом деле — туберкулез в зачатке? Это дало бы мне возможность задержаться в Сангородке надолго, может быть, на месяцы… Дальше, чем на месяцы, мое воображение не простиралось. Обстановка в стационаре превзошла все мои ожидания. Я лежал в длинной белой палате на чистой койке. У меня была тумбочка у кровати, пара туфель и халат. Правда, войлочные туфли и халат были общие и странствовали от больного к больному, но даже спрашивать — «где туфли?» — было приятно. Мне принесли кружку, ложку и полотенце. Кормили нас три раза в день. Я был потрясен, когда принесли мне в обед немного жареной картошки и настоящую мясную котлетку… Я забыл про голод и был просто взволнован человеческой стороной этого отношения к больным. В лесу у нас не было обедов, а жареной картошки я не видел уже год… О, счастье быть легочным больным! Ради этого стоило пройти сотни километров этапа…
Соседа моего звали Иван Николаевич. Это был высохший, как щепка, угрюмый и желчный конторский служащий. Он пристально рассмотрел меня, узнал во мне еврея и сразу нахмурился. Это не поразило меня. Я так переживал великолепие стационара, что готов был обнять всех антисемитов Сов. Союза. — На следующее утро Иван Николаевич долго приглядывался к моей постели. Одеяло было сложено неровно. — «Еврейская натура!»-тихо, но явственно произнес Иван Николаевич. Он непримиримо и немедленно с первого взгляда возненавидел меня, мою наружность, слова, движения и даже книгу и очки, которые лежали на тумбочке. Иван Николаевич был старый лагерник, досиживал 8-ой год и через короткое время готовился выйти на свободу. Чахотка и воля наперегонку играли его жизнью. Пришло время, полгода спустя, когда я спросил: «а где же Иван Николаевич? не видать его…» и мне сказали «не знаете разве? — на освобождение пошел»… и я представил себе Ивана Николаевича на свободе — с зарядом антисемитизма, ненависти и горечи, глубоко упрятанных в сердце, с чахоточным кашлем и горбом восьми лагерных лет — одного из миллионной массы советских Иван Николаевичей.