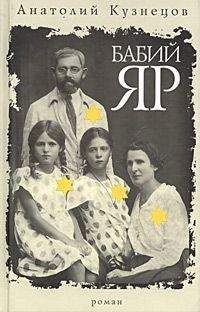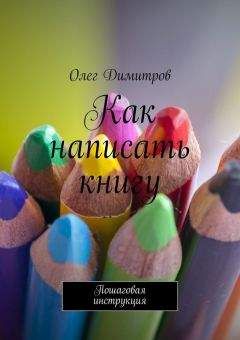Юлий Марголин - Путешествие в страну Зе-Ка
Мы шли по 12 часов в день, от б до б, а иногда еще раньше начинали свой марш. Ночью было варварски холодно. У меня уже не было одеяла. Я лежал на влажной, сырой земле, сырость входила в тело, ноги ломило, я дрожал от холода и натягивал бушлат то на грудь и лицо, чтобы спастись от комаров, то на мерзнувшие ноги. Спали скверно и мало, маялись, а на заре, когда бледные звезды еще стояли над полем, полным лежащих тел, кто-то садился, и сразу кричал ему конвойный с края поля: «Ложись сию минуту!»
— Оправиться, стрелочек!
— Никуда не пойдешь! — Наконец, по сигналу вся громада подымалась. Не было много времени. Если была близко вода, ручей или лужица — умывались из горсти. Потом длинные ряды выстраивались за хлебом. Раздавали полкило хлеба, черпак баланды. З/к съедали хлеб мгновенно. Но я себе оставлял половину на полдень. Остальные до вечера ничего не ели.
И вот команда — «Стройся!» — и первые ряды уже выходят на дорогу. Месили глубокую черную грязь, подымали облака пыли, шли вверх и вниз, по горам и долам, мерно и тихо покачиваясь, молчаливо потупясь в землю. Только станет шумно в строю: «прекратить разговоры!» — Я шел в бушлате и старых ватных брюках, оттягивая руками лямки оседающего на крестец рюкзака, и то и дело встряхивался, подымая ношу на плечи. В руке чемоданчик, который каждый километр перекладывал из руки в руку. Вдоль тракта дорожные столбы отмечали пройденные километры. Сразу в дырявые, с отстающей подошвой, башмаки набивалась земля и камешки. Ходить становилось больно, и надо было на ходу вычистить, что набилось. И уже хромал кто-то, и отставали подростки и больные. Худое тело настораживалось, собиралось: вот эти ноги, эти плечи, сердце, легкие — твой единственный союзник. Не подведут, выдержат, вынесут сегодня, как вынесли вчера! Что могут другие, и ты можешь! Когда 5 километров осталось позади, чемодан становился свинцовым. О рюкзаке уже не думалось, как будто его не было вовсе. Все внимание — чемодану. Рука не успевает отдохнуть. Перекладывать приходится все чаще, продевая руку под веревку, которой опутан чемодан.
Каждые 8– 10 километров мы отдыхали. Это зависело от воды. Дойдя до воды — ручья или речки — устраивали привал. Когда воды не было — шли лишние километры. Наступал момент, когда больше не было сил. Саднило плечи, спотыкались ноги, липким потом заливало тело, и руки сводило судорогой боли. И только движение колонны несло еще вперед комок человеческой слизи — по инерции. Теперь уже скоро: еще 10 минут, еще четверть часа. И вот издалека уже видно: речка под горой, кусты, ракиты. И первая колонна уже лежит, как серая гусеница, с краю дороги. Команда: «Ложись, отдыхай!».
Сотни людей валились на землю в упряжи рюкзаков, не снимая, чтобы потом не тратить времени на закладывание. Когда мешок перестает тянуть плечи вниз — он превращается в упор. Тело благодарно прислоняется к нему. Наступает минута такого блаженного полного телесного облегчения, точно мы расстались с плотью и живыми вступили в небо. Глаза закрываются, руки опадают. Получасовый отдых течет, как плавная и медленная прохладная река. Кругом звенят котелки. Набирают много, пьют по очереди, передавая из рук в руки. Иногда кажется, что стрелки забыли о времени. Конвоиры сидят в стороне от арестантов. Они идут как мы, и устают как мы — они только не так голодны…
— «Подымайся!» — и сразу проходит движение по скошенному человеческому полю. За эти несколько минут многие успели заснуть, но сон их чуткий — только тронь плечо, и уже торопливо подымаются.
Теперь нет и мысли об усталости: впереди 2 или 3 часа марша. Солнце жжет. Чтобы легче было ходить, мы думали о чем-нибудь другом. Думали о еде. Чувство голода, которое дурманило нас вместе с июльским зноем и дорожной пылью — было не личное, а коллективное, всеобщее чувство з/к. Мы шли в облаке голода. Все было у нас распалено, растревожено, натянуто как струна. Я тайно торжествовал: в рюкзаке было у меня 200 грамм хлеба, недоеденных утром…
Через 2 часа я буду есть. Кто писал о голоде? Гамсун… «Илайяли:»… Как это смешно, литературно… Что за голод может быть в городе, где все кругом сыты, где столько разной еды и витрины полны всякого добра? Это поза, голод от гордости… В каждой помойке столько съедобного, только нагнись… Город полон запаха хлеба, который не входит в равнодушные ноздри. Город полон непомерных, расточенных, незамеченных богатств, там на базарах люди ступают по еде, топчут ее, собаки и птицы не успевают подобрать остатков… Столбик на баллюстраде… Я шел, как пьяный. На приморском бульваре Тель-Авива, на столбике баллюстрады, ребенок, по дороге в школу, оставил кусок белой булки, недоеденный кусок с вишневым вареньем. Ранним утром, сходя купаться к морю, я увидел этот кусок булки. Белый с вишневым — красочное пятно, больше ничего. Мне и в голову не пришло, что это можно съесть. Вечером я был на том же месте. Прошел долгий летний счастливый полный день в том городе, где столько людей счастливы до того, что уже не ощущают своего счастья. Тысячи людей прошли мимо столбика, и все еще лежал утренний кусочек белой булки с вишневым вареньем — нетронутый. Птицы не расклевали его, и голодных не было в том городе… Илайяли… Витрины магазинов полны света, звенят трамваи… Здесь голод в пустыне, голод в дороге, арестантский голод. Ничего нет, и не будет. Видеть еду — уже половина сытости. Разве это голод — не иметь денег купить? Разве это голод — стыдиться попросить?… «И л а и я л и»…
И вдруг, вместо Илайяли, я увидел мысленно то, от чего у меня подкосились ноги и перехватило горло: кусок пеклеванного хлеба.
Хлеб свежий до того, что не режется ножом; по другой стороне он весь в белой муке, и мука осыпается на пальцы; лакированная гладкая золотистая корка потрескалась. Надо было намазать этот душистый огромный кусок хлеба медом. Но я не успел. Руки задрожали у меня от жадности. Мед был на столе под рукой. Но я не стал его брать…
Полный рот хлеба! Я шел с рюкзаком, открыв пересохший рот как рыба…
На горизонте встала церковка с зеленым куполом. Издалека она имела вид достойный и мирный, но когда через час, наконец, брели по деревенской улице мимо — мы увидели: руина без креста, двери сорваны с петель, окна выбиты.
Нет, меня нельзя было повалить! Когда уже спекшиеся губы почернели, и стал валиться из рук свинцовый груз, я позвал на помощь. И в эту каторжную толпу вступила белая фигура, которую только мои глаза видели. Я посторонился, давая место, и поднял голову. Мы шли вдвоем, шли рядом, как всю жизнь. Как я был силен! Это не был бред, это была правда! Тысячи километров разделяли нас, но я их зачеркнул в эту минуту. Я разговаривал с кем-то, повернув голову и улыбаясь. Я старался не показать, как мне трудно, чтобы не испугать светлой тени, идущей рядом.