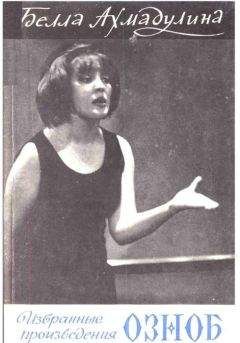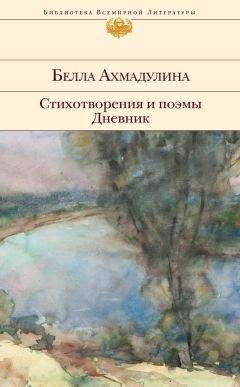Белла Ахмадулина - Поэзия народов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной
V
«День августа двадцать шестой» —
сей строчке минул полный месяц.
Сверчок, обживший свой шесток,
тебе твоих словесных месив
не докучает скромный скрип?
Занятье это бестелесно,
но им перенасыщен скит[253]:
сверчку и скрипу — вместе тесно.
День сентября двадцать седьмой
настал. Я слов велеречивость
читаю хладно. Но со мной
вот что недавно приключилось.
Я обещала, что смешлив
мой будет слог — он стал прискорбен.
Вдруг ноздри вспомнили самшит[254],
вцепившийся во встречу с морем,
вернее — он препоной был,
меня не допускавшей к морю.
Его, как море, возлюбил
мой нюх, что я от моря скрою.
Прогоркло-приторный настой,
подача корма нищим легким,
дремучий, до-античный сон,
но в схватке с беззащитным локтем.
Во вздохе осени сошлись
больничный двор с румяным кленом
и узник времени — самшит.
Нетрудно слыть вечнозеленым,
но труд каков — вкушая тлен
отживших, павших и опавших,
утешиться поимкой в плен
податливых колен купальщиц.
Чем прибыль свежести сплошней,
тем ярче пряность, терпкость, гнилость.
Скончанье дня скончаньем дней
прозрачно виделось иль мнилось.
В ночи стенание машин
томит и обостряет совесть.
Как сгусток прошлого — самшит —
усильем ребер вновь освоить?
Там озеро звалось: Инкит
и ресторан, где танцевали
грузин с абхазкою, испив
несходства «Псоу»[255] с «Цинандали»[256].
Беспечность младости вольна
впасть в смех безвинный, неподсудный.
Зрел плод вина, но и война
между Бичвинтой и Пицундой.
В уме не заживает мысль:
зачем во прахе, а не вживе
краса и стать спартанских мышц
Ираклия Амирэджиби[257]?
Не сытый знаньем, что отец —
вовеки беглый каторжанин,
антропофага[258] зев отверст
и свежей крови ждет и жаждет.
Зачем, за что земли вовнутрь,
терзаемые равной раной,
ушли — селенья Члоу внук
и внук Ираклия Ираклий?
Зиянье горл: — Зачем? За что?
О Боже! — вопиет — о Гмерто! —
И солнце за луну зашло,
ушло в уклончивость ответа.
Ад знает, кто содеял взрыв,
и ангелами возлетели,
над разумом земли возмыв,
те, что почили в колыбели.
Пока людей с людьми разлад
умеет лишь в мишень вглядеться,
ужель не упасет Аллах
Чечни безгрешного младенца?
Неравновесия недуг
злом превозможет здравость смысла.
Так тяжесть розных ведер двух
гнетет и мучит коромысла.
Так акробат, роняя шест,
жизнь разбивает о подмостки.
Так все, что драгоценно есть,
непрочно, как хребет в подростке.
Перо спешит, резвей спешит
пульс, понукаемый догадкой:
разросшись, как проник самшит
в день сентября двадцать девятый?
Сей день вернулся в бывший день:
в окне моем без промедленья
светало. Не в окно, не дэв,
не в дверь — сквозь дверь внеслась Медея.
Вид гостьи не был мне знаком,
незваной и непредвестимой,
но с узнаваемым цветком —
не с Тициана ли гвоздикой?
И с иберийским образком:
смугл светлый лик Пречистой Девы.
Те, коих девять, прочь! Тайком
крещусь, как прадеды и деды —
по русской линии, вполне ль
прокис в ней привкус итальянства?
Иль, разве лишь во ржи полей,
в ней мглы и всполохи таятся?
Татарства полу-иго свесть
с ума сумеет грамотея.
Как просто знать, что есть не смесь,
а слиток пращуров — Медея.
К тому же — здесь. В ней пышет зной,
ко мне нагрянувший метелью.
Какой ее окликнул зов?
Что привело ко мне Медею?
Все просто. Тех приморских дней
она — чувствительный свидетель.
Платок я подарила ей.
Сей талисман завещан детям.
О том на память, что моря
влюбляются в купальщиц вялость,
«Грузинских женщин имена»
стихотворение сбывалось.
Я знаю странный свой удел:
как глобус стал земли моделью,
мой образ — помысел людей
о большем — обольстил Медею
и многих, коим прихожусь
открыткой, слухами, портретом,
иль просто в пустоте кажусь
воображаемым предметом.
Весь мой четырехстопный ямб —
лишь умноженья упражненье:
он простодушно множит явь
на полночи сквозняк и жженье.
Он усложняется к утру.
Читатель не предполагаем
и не мерещится уму,
ум потому и не лукавит.
Но как мне быть? Все горячей,
обняв меня, Медея плачет,
смущая опытность врачей
раздумьем: что все это значит?
Смогу ли разгадать сама
надзором глаз сухих и строгих,
что значат клинопись письма
и тайнописи иероглиф?
Быть может, некий звездочет
соединил меня с ошибкой
созвездий? Чем грустней зрачок,
тем поведенье уст смешливей.
Пред тем, как точку сотворю,
прерваться должно — так ли, сяк ли.
Сгодится точка сентябрю:
страница и сентябрь иссякли.
Авелум[259]
Отару Чиладзе
Явилось торжество и отшумело
на перепутье новогодних лун.
Да, только одиночество шумера
могло придумать слово «Авелум».
В чем избранная участь Авелума —
живущий врозь и вольно, или как?
Не вместе, не вдвоем, не обоюдно?
Пусть будет неприкаянным в стихах.
Так свой роман нарек Отар Чиладзе.
Давненько мы не виделись, ау!
Печального признанья начинанье
ловлю, преображенное в молву.
А помнишь ли, Отар, как наш хабази[260] —
схож с обгоревшим древом, сухопар —
нырял в полымя пасти без опаски
и был невидим — лишь высокопят.
Как молодость сурова и свободна:
лик Анны, улыбающейся мне,
застолий наших остров — дом Симона,
цирк, циркулем очерченный в окне.
Или другой холодной ночи жженье —
высокогорный, с очагом, духан.
Снегов официантку звали: Женя, —
внимавшую то пенью, то стихам.
Я обещала с ней не расставаться —
беспечному в угоду кутежу,
и, клятве легкомысленной согласно,
вот — слово мимолетное держу.
А после — звезды звездами сменялись,
и, под присмотром Бога самого,
мы пропасти касались и смеялись,
разбившись над ущельем Самадло.
И впрямь смешно — легко, а не сторожко
над бездной притягательной висеть.
В снегу была потеряна сережка —
ты не нашел, зато сумел воспеть.
Осталась в долгопамятном помине
грядущей жизни маленькая треть.
Моя свеча — прилежна, ей поныне
сопутствует Галактиона тень.
Я сумрачно тоскую по Тбилиси,
Метехи вижу, веки притворив.
Хочу спросить: наития сбылись ли
всех дэвов — в шапке вымыслов твоих?
Когда я снова полечу-поеду —
средь времени отрав или отрад!
Отар, пошли мне чудную поэму!
Или меня отринул ты, Отар?
Не быть мне ни повинной, ни подсудной
пред роком, чей пригляд неумолим,
пред распрей меж Бичвинтой и Пицундой,
пред городом твоим, но и моим.
Так, при свече, с любовью и печалью,
в ночи от хвойных празднеств затаясь,
— Рогора хар[261]? — тебя я вопрошаю.
Да, авелум — когда бы не Тамаз.
Но есть и я. И свет небесный — с нами.
Душа, как снег — и твой, и мой, — свежа.
Нечаянно содеяла посланье
то ль я, то ли иссякшая свеча.
1999