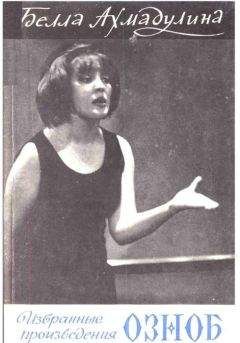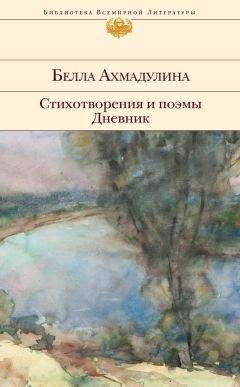Белла Ахмадулина - Поэзия народов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной
IV
Луне, взошедшей над Мтацминдой,
я не повем печаль мою.
На слог смешливый, слог тоскливый
переменить не премину.
Евгений Рейн [241]воспел Дигоми[242],
где телиани он вкушал.
Названье родственно-другое
прислышалось моим ушам.
Увы, косноязычья мета —
как рознь меж летом и зимой.
Не пестовала «Дэда-эна»
умы ни Рейна и ни мой.
Квартиры говор коммунальной —
и нянька нам, и гувернер.
Язык грузин, для нас фатальный,
мы исказим и переврем.
Дигоми — пишем, но дыханье
твердыню «дэ» должно возвесть.
Над нами вздыблен дым в духане,
что девы нам, коль дэвы — здесь.
Звук «Гэ» достоин укоризны.
В Дигоми так не говорят.
Был близок Лесе Украинке[243]
его грузинский вариант.
Мы все пивали телиани[244]
в те дни, в застолий тесноте.
«Ли-ани» длили ты ли, я ли,
слог «тэ» смешав со словом «те».
Взращенных в сумрачном детдоме
отечества, чей нрав суров,
не всех ли нас собрал Дигоми,
сирот преобразив в сынов?
Чтоб снова не осиротело
души бездомное тепло,
был сон — и слово «Сакартвело»
само себя произнесло.
Заслышав: «Моди[245], чемо швило», —
по праву моды, лишь моей,
перо проведать поспешило
пиры и перлы давних дней.
Коль Картли, из незримой близи,
меня окликнет: — В яви дня
ты чтишь ли иа и наргизи? —
Я не вскричу развязно: — Да! —
Благоговейно молвлю: — Диах, —
чем возвеличу хо и ки[246].
Смеются девять дэвов дивных:
одышлив дых моей строки.
В грехах неграмотных не каясь,
тем, кто явился мне вчера,
мое печальное: нахвамдис [247]—
сказать и страшно, и пора.
Сгущается темнот чащоба.
Светильник дружества погас.
С поклажей: «Боба, гамарджоба![248]» —
в чужбину канул Боба Гасс.
И Эдик Элигулашвили[249],
что неразлучен с Бобой был, —
в той вотчине, что много шире
и выше знаемых чужбин.
Поющих — певчие отпели.
Гнев Зевса[250] то гремит, то жжет.
Москва, в отличье от Помпеи[251],
огнь смертоносный в гости ждет.
Коль нам ниспослан миг беззвучный,
он — лишь предгрозье, преднамек.
Туристов теша, спит Везувий[252],
но бодрствует над ним дымок.
Похоже ли на уст смешливость
то, что объявлено строкой?
Тысячелетье изменилось
не очень, как и род людской.
Затмил не слишком ли зловеще
мой слог заманчивый пробел?
Созвездье кроткое овечье,
провозвести или проблей:
как прочь прогнать ума оплошность
и знанье детское сберечь,
что цвима — дождь, что цхени — лошадь,
что дэда — мать, а эна — речь?
Сердцам разрозненным — доколе
и петь, и причитать навзрыд?
Вернусь в диковины Дигоми,
где свет горит и стол накрыт.
Возрадуюсь, бокал наполню…
Все так и было, вдалеке
от яви, только — что? Не помню:
заснула я с пером в руке.
V
«День августа двадцать шестой» —
сей строчке минул полный месяц.
Сверчок, обживший свой шесток,
тебе твоих словесных месив
не докучает скромный скрип?
Занятье это бестелесно,
но им перенасыщен скит[253]:
сверчку и скрипу — вместе тесно.
День сентября двадцать седьмой
настал. Я слов велеречивость
читаю хладно. Но со мной
вот что недавно приключилось.
Я обещала, что смешлив
мой будет слог — он стал прискорбен.
Вдруг ноздри вспомнили самшит[254],
вцепившийся во встречу с морем,
вернее — он препоной был,
меня не допускавшей к морю.
Его, как море, возлюбил
мой нюх, что я от моря скрою.
Прогоркло-приторный настой,
подача корма нищим легким,
дремучий, до-античный сон,
но в схватке с беззащитным локтем.
Во вздохе осени сошлись
больничный двор с румяным кленом
и узник времени — самшит.
Нетрудно слыть вечнозеленым,
но труд каков — вкушая тлен
отживших, павших и опавших,
утешиться поимкой в плен
податливых колен купальщиц.
Чем прибыль свежести сплошней,
тем ярче пряность, терпкость, гнилость.
Скончанье дня скончаньем дней
прозрачно виделось иль мнилось.
В ночи стенание машин
томит и обостряет совесть.
Как сгусток прошлого — самшит —
усильем ребер вновь освоить?
Там озеро звалось: Инкит
и ресторан, где танцевали
грузин с абхазкою, испив
несходства «Псоу»[255] с «Цинандали»[256].
Беспечность младости вольна
впасть в смех безвинный, неподсудный.
Зрел плод вина, но и война
между Бичвинтой и Пицундой.
В уме не заживает мысль:
зачем во прахе, а не вживе
краса и стать спартанских мышц
Ираклия Амирэджиби[257]?
Не сытый знаньем, что отец —
вовеки беглый каторжанин,
антропофага[258] зев отверст
и свежей крови ждет и жаждет.
Зачем, за что земли вовнутрь,
терзаемые равной раной,
ушли — селенья Члоу внук
и внук Ираклия Ираклий?
Зиянье горл: — Зачем? За что?
О Боже! — вопиет — о Гмерто! —
И солнце за луну зашло,
ушло в уклончивость ответа.
Ад знает, кто содеял взрыв,
и ангелами возлетели,
над разумом земли возмыв,
те, что почили в колыбели.
Пока людей с людьми разлад
умеет лишь в мишень вглядеться,
ужель не упасет Аллах
Чечни безгрешного младенца?
Неравновесия недуг
злом превозможет здравость смысла.
Так тяжесть розных ведер двух
гнетет и мучит коромысла.
Так акробат, роняя шест,
жизнь разбивает о подмостки.
Так все, что драгоценно есть,
непрочно, как хребет в подростке.
Перо спешит, резвей спешит
пульс, понукаемый догадкой:
разросшись, как проник самшит
в день сентября двадцать девятый?
Сей день вернулся в бывший день:
в окне моем без промедленья
светало. Не в окно, не дэв,
не в дверь — сквозь дверь внеслась Медея.
Вид гостьи не был мне знаком,
незваной и непредвестимой,
но с узнаваемым цветком —
не с Тициана ли гвоздикой?
И с иберийским образком:
смугл светлый лик Пречистой Девы.
Те, коих девять, прочь! Тайком
крещусь, как прадеды и деды —
по русской линии, вполне ль
прокис в ней привкус итальянства?
Иль, разве лишь во ржи полей,
в ней мглы и всполохи таятся?
Татарства полу-иго свесть
с ума сумеет грамотея.
Как просто знать, что есть не смесь,
а слиток пращуров — Медея.
К тому же — здесь. В ней пышет зной,
ко мне нагрянувший метелью.
Какой ее окликнул зов?
Что привело ко мне Медею?
Все просто. Тех приморских дней
она — чувствительный свидетель.
Платок я подарила ей.
Сей талисман завещан детям.
О том на память, что моря
влюбляются в купальщиц вялость,
«Грузинских женщин имена»
стихотворение сбывалось.
Я знаю странный свой удел:
как глобус стал земли моделью,
мой образ — помысел людей
о большем — обольстил Медею
и многих, коим прихожусь
открыткой, слухами, портретом,
иль просто в пустоте кажусь
воображаемым предметом.
Весь мой четырехстопный ямб —
лишь умноженья упражненье:
он простодушно множит явь
на полночи сквозняк и жженье.
Он усложняется к утру.
Читатель не предполагаем
и не мерещится уму,
ум потому и не лукавит.
Но как мне быть? Все горячей,
обняв меня, Медея плачет,
смущая опытность врачей
раздумьем: что все это значит?
Смогу ли разгадать сама
надзором глаз сухих и строгих,
что значат клинопись письма
и тайнописи иероглиф?
Быть может, некий звездочет
соединил меня с ошибкой
созвездий? Чем грустней зрачок,
тем поведенье уст смешливей.
Пред тем, как точку сотворю,
прерваться должно — так ли, сяк ли.
Сгодится точка сентябрю:
страница и сентябрь иссякли.
Авелум[259]