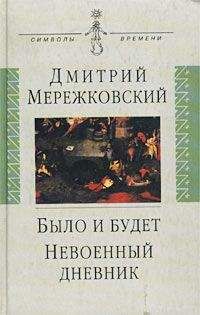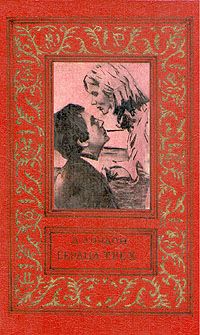Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916
«Тр-р-р» – заскрипел снова шкаф. Теперь я уже не вздрогнул: я знаю, что это мышь возится. Однажды я видел эту маленькую мышку, – она напугалась, увидев меня, и быстро-быстро убежала под шкаф. А скоро час. Я все еще не сплю. Рано ли все это будет? Неужели меня разбудят? Нет, я должен подняться сам. Да чего ж тут думать? Конечно, я проснусь раньше. Только меньше надо думать. Я ведь не знаю подробностей, а тут напредставляешь разной дичи, ну и страшно будет – вон дедушку-то как тогда запугали. Насказали ему, что глаз зацепят клещами и будут тянуть. Фу ты, черт, какой ужас!.. А ведь он верил. Каково же было бедняге идти в эту страшную белую комнату!.. А какой он спокойный, Авербах. Так и чувствуется большая сила. Он во всем белом, стоит и шутит со мною – он часто шутит. Я больше никого не вижу, не замечаю, словно в этой белой комнате только мы с ним вдвоем. А тут ведь мелькают еще какие-то женские фигуры. Но что мне до них, когда все только в его руках. Он один сильный – другие только так себе, мотаются, смотрят, учатся у него. Но что же мне до учеников в такую минуту? Да не надо же об этом. Ная, Ная, не отходи от меня!.. А в купе все тот же знакомый розовый свет. Вот и она лежит с большими грустными глазами. Они широкие такие, эти голубые глаза. А теперь, в полумраке, кажутся еще шире, еще прекрасней, еще грустней. И так хочется, чтобы в эту самую минуту она думала и тосковала обо мне. Я проснулся от боя часов. Пять. Нет, это слишком рано. Я закутался, но уже только дремал. Слышал, как пробило шесть, как поднялись больные и застучали кружки. Потом встала сестра – я услышал ее голос где-то в отдалении.
Так прошло три часа… Теперь каждую минуту жду, что придут и поведут с собою. Мне уже дали чистое белье. Я переодел его наскоро, очень торопясь, словно боялся, что могут прийти именно в эту минуту и увести полунагого… Я уже об операции не думаю.
А Дегтяренко все играет на балалайке. У него такой скудный запас песенок. Я их слышал уже сотни и сотни раз. Но почему же сегодня кажется мне, что он играет только грустные такие, почти похоронные?.. Да ведь это все они же, это все знакомые, старые песни.
Все стихло. Почему это?.. А это, наверное, сам пришел, сам Авербах: когда он приходит, всегда делается тихо. Значит, сейчас, значит, скоро. Ну да, конечно, вот и шаги слышу, чьи-то быстрые, торопливые шаги.
5 февраля
Ну, конечно. Ожидание было в тысячу раз страшнее самой операции. Когда привели меня и раздели, положили на этот раскидной, удобный стул, я был спокоен, даже улыбался. Деланности не было, я как-то совсем без борьбы, сам по себе успокоился. Накинули на грудь широкую простыню, волосы закрыли полотенцем, лицо занавесили марлей, в которой было отверстие для глаза. Ну и началось. Я лежал спокойно, не шелохнувшись: я знал, что малейшее неосторожное движенье – и острый ланцетик рассечет мне глаз. А по глазу водили, скоблили его, царапали. Было жутко, но боли не было, во всяком случае, терпеть хватало силы. А жутко было до ужаса; при всем видимом спокойствии, сам того не чувствуя, я, по-видимому, страшно волновался, потому что встал белый, как полотно. Об этом после говорила сестра. Я шатался из стороны в сторону и был слаб, словно встал после тяжкой болезни.
Вечером была Марта. На следующий день она была едва ли не в последний раз.
15 февраля
Молодой солдатик рассказывает про свое житье-бытье на фронте, перечисляет атаки, в которых он участвовал, перечисляет города и деревни, которые они брали и отдавали, описывает ужас тех немецких солдат, которых он лично переколол и перерубил, «а тех, что перестрелял, сосчитать не возьмусь: чик – упал, чик – упал, чик – упал», – и по тому, как часто он повторял это «чик – упал», можно было подумать, что по меньшей мере он перестрелял немецкий батальон.
Доходит он, наконец, до позорного бегства того полка, в котором был он сам, и тут объявляется его смелость, быстрота, соображение, ловкость, находчивость…
– У самой реки прижали нас со всех сторон – и давай. Мост тут был, по нему и переходили мы на эту сторону – так теперь и думать было нечего про этот мост: по нему, словно горох, сыпались неприятельские снаряды. Видит наш командир, что дело плохо: «Спасайся, – говорит, – ребята, кто куда может». Ну мы и кинулись врассыпную. А куда бежать? Побежали бы все к мосту, а я думаю: «Нет, брат, тут мне не дорога», да и ударился по берегу.
– Так куда же ты – к неприятелю, значит?
– К самому ему и побежал – потому тут что же, самый пустяк был, вся сила-то позади была. Бегу, бегу это – и прямо на немца наскочил: раз ему штыком в живот – пропорол, насилу штык-то вытащил. Сбежал к реке, разделся. Ну, конечно, все бросил, все им тут оставил: и ранец, и штаны, и сапоги – все. Остался только в рубашке, да винтовка с собой – потому что же я за солдат, коли ворочусь без винтовки? А холодно. Ну, что же делать: солдат, такая уж солдатская доля – перекрестился, раз в воду и поплыл. Плыву.
– Так, а винтовка-то как же – одной рукой, значит, поплыл-то?
– Нет, обеими…
– Так как же ты?
– А я, брат, с берегу-то размахнулся да так изловчился, что она воткнулась на мели.
– А речонка-то маленькая?.. Как зовется?
– Нет, не маленькая: Неман.
– Так ты, брат, значит.
– Да, да: размахнусь – и кину ее. А потом заплыву, вытащу да опять брошу, она опять и воткнется. Опять доплыву.
– Так как же ты знал, куда надо было бросать-то?.. Ведь эта самая река, говорят, глубокая.
– Глубокая. Ну а все-таки и мели были – так вот я их и замечал.
– Да нет, брат, ты.
– Да я же говорю тебе. Не иначе, река на ту пору замелела.
– Нет, брат, уже это что же. Так-то мы и дома у себя воевали.
Слушатели расходятся.
Ужасы дисциплиныДисциплина необходима. Но это утверждение слишком часто является только стеною, за которой истязают и насилуют солдата. Этой необходимостью отговариваются и оправдываются изверги, бессердечные тираны, сладострастники мученья. Они мешают жестокость с дисциплиной, камень принимают и выдают за хлеб, не понимают истинного смысла дисциплины. У нас уж как-то так случилось, что издевательство и дисциплина сделались синонимами. Свою безответственность в деле дисциплины принимают за право на издевательство и зверство и в широком размере на деле применяют это мнимое свое право. Дисциплина должна держаться не кулаком и плеткой, она – дело не подневольное, а добровольное, т. е. она должна родиться сама собой, из совокупности фактов, ее не нужно делать, склеивать из черепочков: саморожденная, она крепче сделанной. Дисциплина крепка уважением к авторитету начальника, верой в его силу, знание и уменье. Недостаток этих оснований истинной дисциплины бессильные и наглые пополняют грубостью и бессердечным издевательством. Солдат рассказывает: