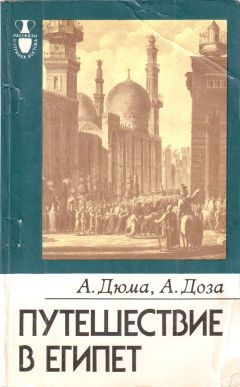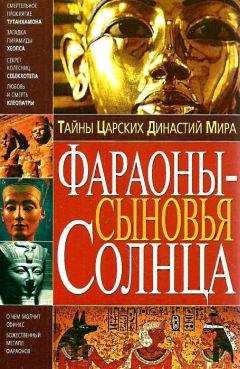Владимир Беляков - Русский Египет
«6 августа 1920 года.
Перечитывал Ваше милое, глубоко оскорбленное, огорченное и бесконечно доброе письмо. Но знаете, моя добрая подруга, что Вы все-таки не все там продумали до конца. Вы говорите, что Вы меня любите, но что ни Вы моей женой, ни я Вашим мужем быть не можем; Вы говорите, что тем не менее, если у Вас будет муж, а у меня жена, то наши отношения (нечто большее, чем дружба) все же останутся прежними.
Вот тут-то Вы и попадаете на Вами самою невыясненные для себя же места, на слова «не от жизни», а от «поэзии и литературы», словом, на то, на чем главным образом люди и ошибаются, веря в вымышленное, а не существующее.
Давайте для начала говорить не о себе, а вообще о людях, о людских чувствах. Еще Толстой говорил, и, по-моему, совершенно правильно, что слово «дружба» между женщиной и мужчиной (если, конечно, они не старцы) — обман. Жаль расстаться с таким красивым, старинным, поэтическим словом, но это так.
Могут быть легкие приятельские отношения и любовь. Любовь может быть выявленная, получившая полный расцвет, и любовь заглушенная, не выявленная по тем или иным причинам. Конечно, я говорю про настоящую любовь, духовную и культурную, а не о грубом тяготении одного пола к другому. Несомненно, что чисто абстрактной любви недостаточно, но только одно другое слишком низменно и звероподобно.
Зверь в каждом человеке есть, и иногда хочется быть зверем, но на зверя же у человека есть узда и плеть, и зверя можно заставить замолчать. Я допускаю, что мужчина может сидеть в тюрьме, пламенно любить, а женщина, любя его так же, будет ждать его; и — наоборот.
Если Вы кому-нибудь говорите, что Вы никуда не уйдете из жизни этого человека, то что же это такое? Это есть то высокое влечение друг к другу, несмотря ни на что. Как это называется? «Дружба»? Полноте, это — больше.
Вы говорите, при наличии этого, о каком-то возможном муже. Что же за существо такое, этот «муж»? Тоже «друг»? Я не вижу его духовной роли. Или это просто отец детей, какой-то охранитель? Если же муж будет, по Вашей терминологии, «другом», высшим «другом», то тогда естественно увянет первая дружба, ибо, по моей терминологии, «муж» (если это в высшем смысле) есть любовь осуществленная, а то первое — любовь неосуществленная, а я не верю в двоелюбие. Любовь одна.
Значит, два возможных выхода.
Первый: Вы любите высшей любовью Вашего мужа и тогда память о том старом «друге» развеется, как детское увлечение.
Второй: Вы и действительно любите Вашего друга, не хотите «уйти из его жизни», тогда, рано или поздно, «муж» этот будет Вашей гирей, Вашими кандалами. Жизнь с ним станет для Вас невыносимой, и Вы будете глубоко несчастны.
Вот, по-моему, спокойное и здравое рассуждение, а не прятанье страусом своей головы под крыло, чтобы сейчас не видеть. А как мучительно все-таки увидеть, но когда уже поздно.
Любовь — вещь крепкая и сильная. Восклицание же «ах, дружба!» — малиновая вода или сентиментальное стихотворение, но не жизнь».
Да, читатель, тут есть над чем поразмыслить…
«1920 год (число не указано. — В. Б.). Воскресенье. 7 часов утра.
Дивное утро. Встал и открыл окна (ночью из-за комаров приходится закрывать). В мою хоромину (Ноев ковчег такой) ворвалось чириканье птиц, косой лучик солнца на подоконнике, а за окнами показались пальмы.
Сейчас, лежа еще в кровати, раздумывал, где что развешу. Сейчас мой араб мне что-то принесет для утреннего подкрепления. Я стараюсь думать только о предстоящей работе, а то я утомился и измучился от постоянно мучающих дум; но вот опять-таки сны. Они врываются в вас, непрошеные, и насильно рисуют вам то, на что, бодрствуя, вы всячески закрываете глаза; и я видел этой ночью сон, очаровательный сон, после которого я проснулся и сперва долго улыбался, а потом понял, что это — лишь сон, и впал в мрачное состояние; но после снова заснул; снов не видел, а когда увидел солнце и зелень, и они этим утром какие-то особенно радостные, то я даже непроизвольно что-то засвистал; я же давно не пел про себя и не свистал.
А сон был такой; буду краток.
В Африке, в пустыне, в одном лагере, обнесенном колючей проволокой (Билибин определенно имеет в виду Телль аль-Кебир, где все еще находилась Чирикова. — В. Б.), я вхожу в палатку. Во входе в нее врываются яркие лучи солнца. В ней много народа, потому что палатка большая. Стоят ряды кроватей, и на одной из них я вижу одну милую девушку, а вид у нее какой-то особенно просветленный. Рядом с ней лежит грудка каких-то небольших белых цветов, очень хорошо пахнущих, связанных пучками. Она улыбается и протягивает мне один пучок, сказавши: «Вденьте себе в петлицу». Тогда окружающие говорят: «Куда же так много? Ведь в петлицу и одного достаточно!» Она же еще раз улыбается, берет всю груду обеими руками и отдает мне все цветы и говорит: «Пускай берет все; ведь это мой жених». Вот и все…»
«Понедельник, 9 августа 1921 года.
Сейчас утро; чайник закипает; боаба (привратника. — В. Б.) еще не было. Встал, умылся, оделся. Кажется, мой старый корабль хотя и с поломкой снастей, но продолжает нести свой флаг по волнам житейского моря. Итак, пока что плывем. То, что я сейчас напишу (до рисования), можете не читать. Это, если хотите, тоже отчасти философия, но, чтобы Вы знали, в чем дело, напишу заголовок этой главе.
Рассуждение о счастьеДерево стремится к свету, ребенок — к матери, человек — к счастью. Это он делает для себя, и потому счастье есть высший эгоизм. Но человек грубый, французский буржуа, стремится очень грубо и примитивно. Он думает только об очень быстром удовлетворении своих стремлений, ошибается в расчете и, в конце концов, получает несчастную, мелкую жизнь или же вовсе тупеет и тогда ничего уже не чувствует. Счастье — взаимная встреча двух эгоизмов, но встреча гармоничная. Как грубое слово — расчет, так и поэтичное — гармония, в сущности, родственны, ибо оба основаны на счете, на математике. Любовь к счету или ритму заложена, как естественный закон, в нашу природу, но только расчет есть счет явный (напр., бухгалтерия), а ритм и гармония — счет скрытый (тонкость духа и, конечно, всякого рода искусство).
В глубине же все то же и то же: «Я хочу для себя!» Месье Гарнье или Дюпон (это фамилии этих почтенных буржуа) делает на свою же голову плохой расчет. Он говорит: «Я хочу для себя» и начинает всякие хитрости. Оставаясь грубым животным, он притворяется утонченным, нежным, мечтательным, пламенно-бескорыстным и пр. и пр., словом, как охотник, «заманивает», и, наконец, это ему удается. Но он даже не поинтересовался проанализировать, хотят ли по-настоящему его с другой стороны, и вот через некоторое время и получает то житейское буржуазное несчастье, о котором я и сказал выше.