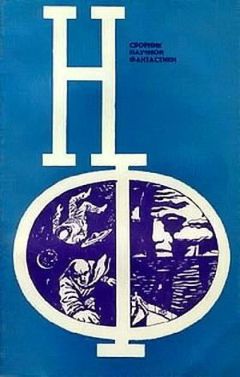Михаил Демин - Таежный бродяга
— Что это у тебя, браток, — язва?
И Пашка пояснил, ухмыляясь и косясь на дверь:
— Спиртной солитер! Сидит в кишках — и требует водки… А что я могу поделать? Такая болезнь! Я, может, и сам не рад…
— Да, конечно, — проговорил я, сразу посерьезнев, — положение аховое… А скажи-ка, — ему только водка нужна?
— Вообще-то он на все согласен. Потребляет и чистый спирт… И от самогонки тоже не отказывается… Но, конечно, предпочитает всему нашу родную, двойной очистки, столичную водочку.
— С закуской, разумеется?
— Само собой. Что он, дурак, что ли? Для него лучший медицинский вариант — хорошая стопка с малосольным огурчиком.
— А как, например, насчет паюсной икорки? — сказал я, — это ведь тоже — вариант медицинский… И оч-чень не плохой!
— Можно, — прищурился Пашка. — О чем речь! Но вообще-то, он на этом не настаивает. Он ведь, в сущности, кто? Скромный, простой, незатейливый паразит…
* * *Отшумела и минула осень. Над селом, над окрестной тайгой, заклубились метели. И в один из зимних вечеров голубых — в тихий час снегопада — Пашка пришел к нам в общежитие.
Он пришел с вещами и с неизменной своей гитарой. Сложил все это у порога. Снял шапку — отряхнул с нее снег. И объявил, широко улыбаясь:
— Выгнали!
Потом мы грелись чайком и слушали пашкину историю. Все произошло случайно… Однажды теща поехала в районный центр и зашла там в больницу. Зашла — по своим надобностям, но затем вдруг вспомнила о пашкином "спиртном солитере". И попросила лекарства против тяжкой этой болезни… «Солитер» произвел фурор; сбежались медики, стали выяснять подробности. И от общего дружного хохота здание больницы чуть не поднялось на воздух… Старуха вернулась пристыженная, злая. Устроила скандал. И в результате Пашка был изгнан с позором… Уходя, он звал с собой жену, но она не пошла, не рискнула — осталась дома.
Кто-то спросил, указывая на крупный синяк, лиловеющий под левым его глазом:
— Кто ж тебе так засветил? Теща? Или жена — на прощанье?
— Нет, — сказал Пашка, — это уже сам старик постарался. Кулак у него тяжелый, как кузнечная кувалда. Приласкал меня разок — ну, я и покатился…
И он поднял с пола гитару. Корябнул ногтем струну. И опять — как встарь, как бывало — поплыла в полутьме барака протяжная, старая, лагерная песня:
Завезли меня в страну чужую,
с наболевшей, буйной головой.
И разбили жизнь мне молодую,
Разлучили, милая, с тобой.
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
Наша жизнь — как мозаичное панно — складывается из бесчисленного множества мелочей и деталей. Одни из них забываются со временем, другие, наоборот, проступают выпукло и особенно четко врезаются в память. Вот теперь я вспоминаю период ссылки — и вижу очень мало деталей, окрашенных в яркие, летние, солнечные тона. Два главных цвета владычествуют в этой мозаике: черный и белый… Белый снег и черная тайга.
Я бродил, увязая в сугробах, и рубил тайгу, и уставал и мерз, — ах, как я мерз, бывало! — и нелегко было мне привыкать к лесорубному этому быту. Но постепенно я все же привык, втянулся — вошел в колею.
Колея эта шла, в общем, ровно, без крутых поворотов и неожиданностей. И если случались в ту пору приключения, то в основном — только с женщинами.
С ними было у меня, в принципе, то же, что и с литературой; я ведь отрекся от нее, но бросить как видите — не смог! И женщин я проклял когда-то. И правильно проклял, за дело. Но куда же мне было деваться от них, проклятых? Куда вообще от них денешься? Они ведь — часть нас, вторая, так сказать, половина, и если половина эта, зачастую, плоха, что же делать? Такова, стало быть, общая наша сущность.
Короче говоря, мне не везло с ними — как раньше… Был момент, когда я переселился (так же, как и Пашка) из барака — в село. Но вскоре вернулся. Не смог ужиться со своей таежной красоткой. Она оказалась весьма странной: любила, чтоб ее лупили… И когда на нее накатывала такая волна, она становилась невыносимой; придиралась к каждой мелочи, дерзила. А затем — если я оставался невозмутимым — попросту начинала хамить. Ну, меня спровоцировать вообще нетрудно; я взрываюсь легко и с грохотом. И обычно, после каждого такого взрыва, она мгновенно успокаивалась, обмякала. И нежно поглаживая ушибленное место, говорила с какой-то сытой, медленной, полусонной улыбочкой:
— Ну вот, ну вот. Я же знала, что так будет; не зря ведь мне нынче ночью ягоды снились… Это всегда к слезам!
И потом — с удвоенной энергией хлопотала по дому, становилась заботливой, ласковой.
Но я не хотел таких ласк, не нужны мне были клинические зигзаги, совсем другого искал я в женщинах. И, спустя небольшое время (уйдя от нее), нашел кое-что стоящее — как мне показалось…
Нашел — в одном из соседних бараков, в общежитии ссыльных.
* * *О ссыльных я уже говорил… Я ведь сам принадлежал к таковым! Общество это было, однако, неоднородным; помимо «бытовиков» (таких же, как и я), здесь в изобилии имелись политические. И они, в свою очередь, делились на разные категории. Были, например, сосланные навечно. Были такие, что имели определенные, как правило, — пятилетние сроки. Большинство сюда прибыло из сибирских тюрем и лагерей. Но имелись также и "спец. переселенцы", по этапу пригнанные из Украины и Прибалтики — из Эстонии, Латвии, Литвы… Здешняя тайга оказалась вместительной; в ней нашлось место многим языкам и народам!
Жители Прибалтики (обвиненные, в основном, в "национализме") ссылались по большей части семьями. Их подрезали под самый корень… Но меж ними попадались и одиночки — студенты, молодые специалисты. И вот такой как раз и была новая моя подруга Регина. Она училась в вильнюсском текстильном техникуме, была затем отправлена в соседний город на практику, и там-то ее и взяли. Взяли не одну. (По сталинскому рецепту всюду стряпали тогда групповые дела!) В том цеху, где проходила она практику, были преимущественно девушки… И теперь они все вместе трудились в тайге, — в подсобной бригаде, на обрубке сучьев. И жили в одном, шумном, женском бараке.
Барак был знаменитый! Сюда захаживали ребята отовсюду — из нашего леспромхоза, из села, и из окрестных мест. Неподалеку, кстати, находилась крупная стройка (там прокладывалась железнодорожная трасса Южсиба), и оттуда тоже подваливало немало клиентов.
Заглядывал в это общежитие и я, разумеется. Однажды, в воскресных сумерках, я вдруг заметил мелькнувшую в толпе, у барака, знакомую, изрытую, плоскую физиономию. Физиономию Рашпиля! (Ну, того самого типа, который, — помните? — в Красноярске, на воровской малине, отнял мои вещи.) "Не дай нам Бог встретиться", — сказал я ему когда-то. Сказано было серьезно; память на обиду у меня безупречная! И мгновенно вспомнив все, я кинулся за Рашпилем вдогонку. Но не нашел его, не увидел, и решил, что — обознался. Да так это, наверное, и было! А потом я и вовсе отвлекся…