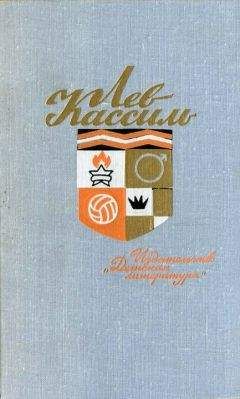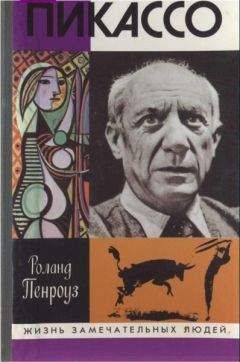Винсент Ван Гог. Человек и художник - Дмитриева Нина Александровна
Быстро пройдя школу «импрессионистов Больших бульваров», как он их называл, Винсент еще теснее сблизился с «импрессионистами Малых бульваров» и склонен был считать себя одним из них, подразумевая художников более молодого поколения, по существу очень разных, стремившихся и продолжить и преодолеть импрессионизм. Он включал сюда и пуантилистов, и Лотрека, и Гогена, и Бернара. Сёра, Синьяк, отец и сын Писсарро (с тремя последними Винсент был в личной дружбе) его особенно привлекали своим подходом к проблеме цвета, идеей оптического синтеза. Едва ли верно, что некоторая «наукообразность» их методов была для Ван Гога чем-то совершенно чуждым: нет, он и сам всегда возлагал большие надежды на науку и при всей пылкости своей художественной натуры никогда не был чистым импровизатором в искусстве. «Круг Шеврейля», которым пользовались Сёра и Синьяк, должен был обладать притягательностью и для Винсента: ведь сам Делакруа когда-то стремился встретиться с ученым-оптиком Шеврейлем, чтобы обсудить с ним законы цвета.
Не лишено вероятности, что при разработке теории цвета пуантилистами Ван Гог не только был пассивным учеником и неофитом, но и сам вносил свою долю, может быть даже активную. Когда-то, в письме к Тео из Нюэнена, Винсент приложил к письму небольшой трактат, посвященный дополнительным цветам, «которые взаимно усиливаются соседством, убивают друг друга в смешении», а также контрастам аналогичных цветов, обладающих различной степенью насыщенности (например, темно-синий и светло-синий), — «эффект, при котором контраст будет достигнут за счет разной интенсивности, а гармония — за счет сходства» (п. 401). Винсент не указывал источника, которым пользовался; скорее всего его изложение представляло собой резюме проштудированных им записей Делакруа. Во всяком случае, он уже тогда взял их на вооружение. Любопытно, что этот его трактат, или реферат, или компендиум, совершенно совпадает по содержанию, а местами и текстуально с записями Люсьена Писсарро, приводимыми в книге Дж. Ревалда «Постимпрессионизм» [66]. Так как Ван Гог в 1885 году ничего не знал о направлении, возглавляемом Сёра, да и об импрессионистах имел очень смутное понятие, остается предположить, что его записи и записи Люсьена Писсарро восходят к общим источникам, «открытым» независимо друг от друга. Если так, то, конечно, Ван Гог отнюдь не чувствовал себя новичком, присутствуя при сложении неоимпрессионистских концепций цвета [67].
Как бы ни было, многие его парижские картины, в том числе уже упоминавшийся «Интерьер ресторана», демонстрируют блистательное приложение их на практике: сияние цвета и богатство оттенков достигнуты благодаря оптическому синтезу мелких, раздельных мазков чистого спектрального цвета. Прием раздельных мазков также не был для Винсента совершенно непривычным — он всегда любил выразительность отдельно положенного или наложенного мазка. Но характер их у него другой: если в пуантилизме мазок — частица сама по себе безличная и однородная с другими, то у Ван Гога мазок — всегда жест руки и элемент построения формы. Его мазки разнообразны по размерам и направлению и сами по себе образуют своеобразную конструктивно-декоративную основу полотна, что, конечно, имеет мало общего с принципами Сёра и Синьяка. Их «точки» он применял вольно и по-своему, продолжая трудиться над собственной системой «сокращений», «стенографических знаков» в живописи, позволявших быстро и экспрессивно «пересказывать подслушанное у природы».
Соглашаясь, что существуют незыблемые, научно подтвержденные законы цветосочетаний, он, однако, не делал отсюда вывода, что живописные задачи могут решаться чисто рациональным путем, наподобие шахматных задач. Если и Камиль Писсарро после своих опытов в пуантилистском духе убедился, что они его связывают, мешая отдаваться непосредственным ощущениям, то Ван Гог тем более не мог и не хотел подчинить им свой романтический темперамент. Он оценивал пуантилизм как течение очень проницательно и здраво, прекрасно понимая, что Сёра обязан своими успехами не столько «методу», сколько большому таланту — да и сам его «метод» в конце концов есть нечто индивидуальное. «Что касается пуантилизма, „ореолов“ и всего прочего, то я считаю это настоящим открытием; однако сейчас уже можно предвидеть, что эта техника, как и любая другая, не станет всеобщим правилом. По этой причине „Гранд-Жатт“ Сёра, пейзажи Синьяка, выполненные крупными точками, и „Лодка“ Анкетена станут со временем еще более индивидуальными и еще более оригинальными» (п. 528).
Увлечение Ван Гога японскими цветными гравюрами потому и было столь страстным (более страстным, чем его отношение к импрессионизму и неоимпрессионизму), что тут его манила не «техника», а какое-то более глубокое и интимное созвучие его заветным идеям о роли искусства в жизни (об этом уже говорилось в биографическом разделе). Тут виделся ему прообраз «народных картин», прообраз искусства простого и радостного, предвкушения «красоты, которая спасет мир». «Штудий» в японском духе Ван Гог почти не делал (если не считать нескольких копий и фонов в портретах) — японцы вдохновляли его в ином, высшем смысле, поднимая его дух, поддерживая веру в искусство.
Это можно почувствовать в уже упоминавшемся портрете Танги — друга Ван Гога, продавца картин. Изобразив Танги на цветистом фоне японских эстампов, Ван Гог сообщил и его наружности нечто японское (что особенно видно в графическом эскизе — там француз Танги почти превращен в японца). Портрет ассоциируется с представлением о каком-то добром японском божке — покровителе искусства. Он и сидит наподобие божка, сложив на животе короткие ручки, благодушный, доброжелательный, немного загадочный. Его окружают розовое цветение сакуры, лиловые ирисы, причудливые фигурки танцовщиц; над головой — конус горы Фудзи. Едва ли не самая дерзостно-красочная, а вместе с тем гармоничная из парижских картин Ван Гога.
Свою формулу «красоты, которая спасет мир» он однажды попытался зашифрованно выразить в натюрморте. Это натюрморт с гипсовой статуэткой. Удивительно, как мог тонкий критик Л. Вентури быть настолько близоруким, чтобы сказать по поводу именно этого натюрморта: «Отныне от пишет, совершенно не интересуясь сюжетом» [68]. Как раз здесь «сюжет» — самое главное. Предметы, от которых Винсент многого ждал для спасения мира: скульптура, книги, розы, то есть искусство, литература, природа. Античная статуэтка высится и царит — она не только предмет искусства, но и символ «выпрямленного» человека (как неизбежно напрашиваются аналогии со знаменитыми формулами русских писателей!).
Ван Гог по своему обыкновению приблизил античный торс к земному женскому, дав ему широкие чресла, «способные рожать», но и не настолько заземлил, чтобы лишить идеальности. Он написал эту гипсовую статуэтку скорее нефритовой, как бы полупрозрачной, зеленовато светящейся. Форма ее груди повторяет форму розовых бутонов, лежащих внизу. Вся композиция с точкой зрения сверху и справа — оттуда же, откуда падает свет, — построена таким образом, что скатерть, на которой расположены предметы, не выглядит горизонтально лежащей, а словно встает стеной, к тому же лишена фактурных свойств ткани, а ее верхние очертания напоминают вершину горного хребта. Невольно возникающая ассоциация с горой влечет за собой другую — синий фон кажется небом. Маленькая статуэтка поэтому вырастает до размеров большой статуи. И все другие предметы, помещенные где-то в сфере неба и гор, становятся необычно большими, величавыми. Так, не нарушая «правдоподобия», путем лишь легких перспективных сдвигов, поднятого горизонта и зрительных ассоциаций, художник сделал из обыкновенного натюрморта поэтической апофеоз.
Совсем другой, но не меньшей, а, пожалуй, большей силы апофеоз — старые изношенные башмаки с еще крепкими подметками, подбитыми гвоздями. Ван Гог написал в Париже шесть натюрмортов с башмаками, и все они поразительны своей экспрессией, простодушной, раскрытой, обезоруживающей, которая, кажется, только от того и зависит, что нам предложено рассмотреть этот бросовый предмет вблизи, вплотную и со всеми подробностями. Они словно говорят: на нас еще никто никогда как следует не смотрел — так посмотрите же. И мы смотрим и неожиданно для себя видим многое: долгие, долгие дороги, исхоженные упорным путником, покрытые угольной пылью [69], снегом и лужами, дороги с колдобинами и булыжниками, колючками и комьями земли; видим внутренним зрением и самого путника, который, подобно этим ботинкам, изрядно поизносился, побит и помят, но не потерял способность идти дальше — подметки сделаны на диво прочно и только отполировались от странствий, даже и шнурки не порвались, хоть и расшнуровались наполовину, а язычки башмаков вывалились и повисли набок, как язык у тяжело дышащей усталой собаки.