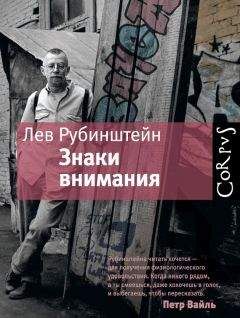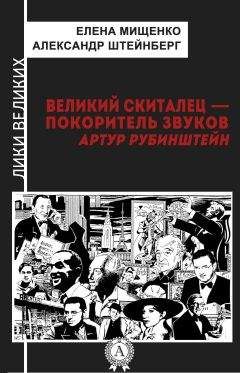Последние дни Сталина - Рубинштейн Джошуа
Молотов разделял озабоченность Берии, ссылаясь на «настоящую волну притеснений населения… Людей наказывают за все, за самые незначительные проступки». Да, признавал Молотов, «чума деспотизма, поразившая товарища Ракоши… родом из Советского Союза». Берия подхватил тему: «Неправильно, что он [Ракоши] занимается всем сразу. Даже товарищу Сталина не следовало быть всем в одном лице». По мнению Берии, отношения между Кремлем и странами-сателлитами нужно было менять. «Это был неподобающий тип отношений, и он привел к негативным последствиям, — сказал он Ракоши. — Отношения состояли из праздничных митингов и аплодисментов. В будущем мы создадим новый тип отношений, более ответственные и серьезные отношения» [445]. События в Восточной Германии, Венгрии и Албании подвергли жесткой критике и обязали внедрить новые, более либеральные подходы, намеченные Кремлем. В Венгрии Матьяш Ракоши подал в отставку с поста премьер-министра, освободив место для Имре Надя — партийного деятеля, поддержанного Москвой (в 1956 году Имре Надь возглавит венгерское движение реформ, что приведет к вооруженному вмешательству советской армии. Самого Надя казнят в июне 1958 года по обвинению в государственной измене). В Албании Энвер Ходжа, который в начале 1953 года занимал практически все руководящие посты в партии и правительстве — он был премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны, а также министром внутренних дел — согласился снять с себя обязанности министра обороны и министра иностранных дел.
Но подобное вмешательство явно запоздало.
11 июня в восточногерманских газетах появились сообщения о «Новом курсе». Коммунистические чиновники, понукаемые из Москвы, теперь признавали допущенные ими «серьезные ошибки» и соглашались «отменить принудительную коллективизацию, сместить акцент с тяжелой промышленности на производство товаров народного потребления, обеспечить защиту частного предпринимательства, поощрять свободу политических дискуссий и политической жизни, восстановить „буржуазных“ преподавателей и студентов в учебных заведениях, из которых их выгнали, гарантировать свободу вероисповедания [и] реабилитировать жертв политических процессов». Как отмечает профессор Гарварда Марк Крамер, «после года бескомпромиссной суровости и притеснений это неожиданное заявление прозвучало в Восточной Германии как гром среди ясного неба». Оно содержало признание поражения, публичную самокритику и целый ряд обещаний, каждое из которых было совершенно беспрецедентно для коммунистического мира и не менее поразительно, чем разоблачение Кремлем сфабрикованного «дела врачей» двумя месяцами ранее [446].
Вскоре последовала череда существенных и знаменательных изменений. Власти объявили об освобождении более пяти тысяч заключенных. Они были задержаны и ожидали суда за различные имущественные преступления, но тех, кому грозил срок не более трех лет, теперь выпускали из тюрем (политические заключенные, очевидно, не входили в их число). С церковных кафедр было зачитано пасторское послание от имени Совета Евангелической церкви Германии с «благодарностью правительству за примирение с Церковью» [447]. Всего несколько недель назад коммунистические власти прервали телефонное сообщение между двумя частями Берлина, теперь же они перестали откапывать из-под земли кабели и отказались от прежних мер изоляции восточных берлинцев от западных.
Но СЕПГ не справилась с задачей проведения последовательной линии ни в рядах самой партии, ни в пропаганде, направленной на остальных жителей страны. Один партийный работник распорядился, чтобы из всех лозунгов и плакатов исчезли упоминания о «строительстве социализма». Это был отказ от курса Ульбрихта. Но через два дня Neues Deutschland — ведущая коммунистическая газета Германии — опубликовала хвалебную статью о рабочих бригадах, которые якобы «добровольно взяли на себя обязательство перевыполнить норму на 20–40 процентов». При коммунистическом режиме такого рода статьи были неотъемлемой частью кампании по оказанию давления на остальных рабочих с целью заставить их последовать этому вдохновляющему примеру бескорыстного труда [448].
Власти, казалось, начали проявлять неуверенность, и это еще больше раздражало рабочих, внушая им мысль, что режим не в состоянии принимать решения. Тем самым обстановка лишь нагнеталась. Угрозы забастовок и простоев становились все более серьезными. Пример показали рабочие, занятые на парадной стройке режима на берлинской аллее Сталина (ныне Карл-Маркс-аллее). Руины военного времени в Восточном Берлине были повсюду, но СЕПГ занялась возведением новостроек именно вдоль аллеи Сталина — роскошных многоквартирных домов и элитных магазинов, которые были по карману только высшей партийной номенклатуре. Именно здесь начались протесты рабочих, приковавшие внимание всего мира. В считаные дни по городам страны прокатилась волна демонстраций, разгневанные участники которых решительно требовали прекращения советской оккупации.
Хотя Кремль всегда старался быть в курсе текущих событий, беспорядки, охватившие ГДР в середине июня, стали для руководства СССР сюрпризом. 15 июня группа рабочих попыталась передать список своих требований председателю правительства Отто Гротеволю, но их отказались пропустить в его кабинет. Чиновники не удостоили их внимания, не желая поощрять неприемлемый способ общения с властями. Их пренебрежительное отношение произвело обратный эффект.
На следующий день сотни рабочих вышли на улицы, подняв транспаранты и реквизировав грузовики с громкоговорителями и велосипеды. Они хотели, чтобы об их акциях узнало как можно больше людей. Вскоре к их колонне, двигавшейся по аллее Сталина и другим центральным улицам, присоединились тысячи других рабочих. Через несколько часов беспорядки охватили все строительные площадки. По случайному совпадению в тот самый день проходило еженедельное заседание Политбюро СЕПГ, на котором обсуждался вопрос о реализации «Нового курса» и его политических последствиях. Потребовалось несколько часов дебатов, прежде чем взволнованный неожиданным неповиновением Ульбрихт смирился и дал согласие на отмену новых трудовых нормативов. Власти выпустили длинное, тщательно составленное заявление, в котором признавали, что «административное повышение норм выработки было ошибкой, поскольку такое решение должно приниматься только путем убеждения и с добровольного согласия». Теперь рабочим предстояло «сплотиться вокруг партии… и сорвать маски с провокаторов, пытающихся посеять раздор и смятение в рядах рабочего класса» [449]. Но трудящиеся, от имени которых якобы правил режим, не собирались подчиняться.
Лозунги демонстрантов все больше становились политическими, включая требование свободных выборов. Уверенные в своих силах и полные отчаянной решимости, они оставались на улицах до позднего вечера. Как писала The New York Times, «на бесчисленных перекрестках толпились десятки, а то и несколько сотен человек и слушали, как спорят друг с другом диссиденты и лоялисты» [450]. Поскольку власти не собирались идти на переговоры, отдельные рабочие призывали на следующий день устроить в центре Восточного Берлина всеобщую забастовку. Хотя контролируемая американцами радиостанция РИАС (Rundfunk im amerikanischen Sektor — Радио в американском секторе), бывшая очень популярной среди восточных берлинцев [451], коротко сообщила об этом призыве, даже эти сдержанные «упоминания были удалены из всех последующих выпусков новостей по требованию американских властей, которые настаивали на том, чтобы из передач РИАС было исключено все, что может спровоцировать забастовки или демонстрации», — писал Арнульф Баринг в своем подробном рассказе о восстании [452]. Западные официальные лица предпочли занять осторожную и сдержанную позицию. По крайней мере 16 июня рабочие сами, используя реквизированный ими грузовик с громкоговорителем, оповестили население о запланированной на следующий день демонстрации.