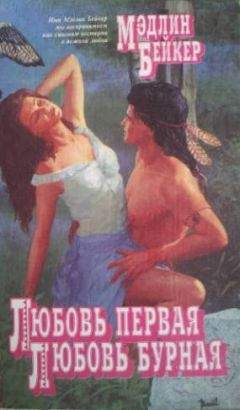Любовь Воронцова - Софья Ковалевская
— Она спасена, говорит доктор. Сегодня проснулась, поднялась на постели и стала чертить на одеяле какие-то формулы. Потом попросила у меня карандаш и бумагу и совершенно погрузилась в решение математической задачи. Это очень хороший знак у нее. И она желает вас видеть.
Мария вошла в комнату. Софья Васильевна была бледна, очень похудела, глаза ее напоминали глаза умного, послушного ребенка. Она сидела в постели, совершенно поглощенная задачей.
В следующие дни к ней постепенно вернулось полное сознание, но силы восстанавливались очень медленно. Когда, наконец, настал период полного выздоровления и жизнь вошла в свою норму, прошедшее представилось ей в отдалении, как через дымку.
В эти дни Софья Васильевна очень привязалась к Янковской, вела с ней длинные беседы до рассвета. Она мучительно пыталась разобраться в причинах трагической гибели Владимира Онуфриевича — человека, несомненно, доброго, талантливого, способного откликаться на все хорошее.
Силой своего таланта он с непостижимой быстротой не только овладел наукой, но и занял в ней выдающееся место. А кто оценил его талант?
«Такое хорошее было начало, — писал брату Ковалевский, — как вернулся из-за границы в 74-м (году), и так все испортить. Получи я тогда хоть самое малое место консерватора[9], ничего бы не произошло».
Последние письма Ковалевского к брату — картина его агонии. Рагозины ловко запутали Владимира Онуфриевича. Ему угрожал суд за то, что он якобы умышленно скрывал злоупотребления дирекции, получая взятки паями. Он был подавлен мыслью об этом суде, о позоре, и не смог устоять.
Набранная мелким шрифтом заметка о смерти ученого, имевшего незначительный чин титулярного советника, затерялась в «Московских ведомостях» среди обширных сообщений о коронации Александра III и отчетов о деле 17 народовольцев. Университет принял на свой счет расходы по погребению покойного, так как он «не оставил средств и родных его нет в Москве». Совет утвердил ассигновку в двести пятьдесят рублей, а полиция похоронила Ковалевского, как бездомного бродягу!
Всем сердцем, всем разумом постигла Ковалевская тяжесть своей и Владимира Онуфриевича вины перед наукой, перед талантом.
Взяв карандаш, она быстро стала записывать запросившиеся на бумагу слова:
Если ты в жизни хотя на мгновенье
Истину в сердце твоем ощутил,
Если луч правды сквозь мрак и сомненье
Ярким сияньем твой путь озарил:
Что бы в решенья своем неизменном
Рок ни назначил тебе впереди,
Память об этом мгновеньи священном —
Вечно храни, как святыню, в груди.
Лживые призраки, злые виденья,
Сбить тебя будут пытаться с пути;
Против всех вражеских козней спасенье
В собственном сердце ты сможешь найти;
Если хранится в нем искра святая,
Ты всемогущ и всесилен, но знай,
Горе тебе, коль, врагам уступая,
Дашь ты похитить ее невзначай!
…
Лучше бы было тебе не родиться,
Лучше бы истины было не знать,
Нежели, зная, от ней отступиться.
Чем первенство за похлебку продать.
Ведь грозные боги ревнивы и строги,
Их приговор ясен, решенье одно:
С того человека и взыщется много,
Кому было много талантов дано.
Талант обязывал к научному труду. Но где она сможет работать?
Как быть дальше? От восхищения крупнейших ученых ее способностями до предоставления ей куска хлеба, чтобы жить, и кафедры в высших учебных заведениях, чтобы отдавать свои знания, в республиканской Франции было так же далеко, как и в монархической России. Ковалевской казались жалкой и презренной ложь и лицемерие республики буржуа. Сытые и жадные торгаши блудливо жонглировали святыми словами, держась за свои кошельки. Бесполезно было оставаться в Париже.
И в начале июля 1883 года Софья Васильевна поехала в Берлин. Она еще была слаба после потрясения, но внутренне вполне собрана. Вейерштрасс встретил ее очень сердечно, просил поселиться у него «как третья сестра».
Узнав о гибели Ковалевского, он написал Миттаг-Леффлеру, что «теперь, после смерти мужа, более не существует серьезных препятствий к выполнению плана его ученицы — принять должность профессора в Стокгольме», и смог порадовать Соню благоприятным ответом из Швеции.
Миттаг-Леффлер заручился согласием влиятельных ученых, заинтересованных в привлечении талантливой русской, и написал Вейерштрассу, что Софья Васильевна может в любое время приехать и начать курс своих лекций. Но, как и раньше, он предупреждал: сейчас пока еще невозможно предложить ей штатную должность с постоянным жалованьем. Она должна будет завоевать это право своим дарованием.
— Как я счастлива, что скоро смогу вступить на путь, который всегда был предметом моих наиболее дорогих желаний! — радовалась Ковалевская, благодарила Миттаг-Леффлера за дружбу и спрашивала его совета. Может быть, ей следует побыть подле Вейерштрасса два-три месяца, чтобы заполнить пробелы, еще имеющиеся в ее математическом образовании, и в кругу начинающих свою деятельность доцентов попробовать читать лекции? Это поможет ей выполнять новые обязанности настолько хорошо, чтобы разрушить существующие в отношении женщин предрассудки.
Софья Васильевна познакомилась и подружилась в Берлине с русским математиком Дмитрием Селивановым и немцем Карлом Рунге, предложила им обменяться интересными сообщениями. У нее было что рассказать о новых трудах знаменитых французов, с которыми ей пришлось беседовать; она могла изложить основательно изученную теорию преобразования функций. Такая практика была, бесспорно, полезна. Ведь ей никогда еще не приходилось читать лекции!
Готовясь к поездке в Стокгольм, Ковалевская работала с утра до поздней ночи: разыскивала все появившиеся в печати исследования, делала к своему курсу извлечения из классических трудов, разговаривала с маститыми немецкими учеными — Вейерштрассом, Кронекером, Фуксом, выступала с рефератами перед кружком молодежи. А после бесед о математике часто уезжала к Георгу Фольмару, находившемуся в Берлине, послушать споры немецких революционеров о стоящих перед социалистическим движением задачах.
Исследование о преломлении света Вейерштрасс похвалил и решил отослать его для опубликования в шведский журнал «Acta mathematica».
— Ты прибудешь в Стокгольм, а ученые шведы уже познакомятся с тобой по такой приличной работе, которая может сделать честь любому мужчине-математику!
Ковалевская улыбнулась благодарно и чуть иронически:
— Мне кажется, дорогой учитель, у вас развивается невыносимая «шишка тщеславия». Вы становитесь хвастливым. А это заразительно. Скоро и я начну думать, что действительно большой шик, если женщина, начиная читать лекции, сможет, как о чем-то обыкновенном, говорить о собственных исследованиях…