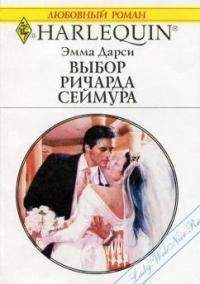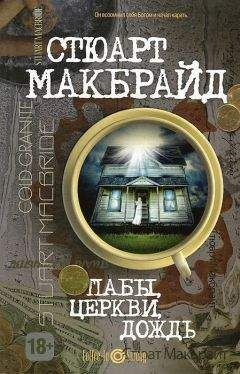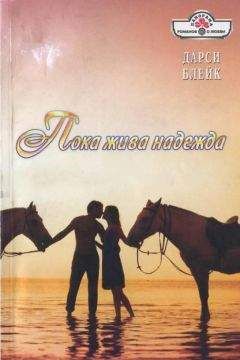Борис Дьяков - Повесть о пережитом
— А как… Баринов?
— Баринов?.. — Она обернулась на дверь. — Обождите!
Вышла.
Осенний ветер прорвал густые тучи. Солнечный луч упал на стол. Ослепительно засверкал светоскоп…
«И в тайге светит солнце!» — облегченно подумал я.
Перепелкина принесла мой формуляр.
— Подписал! — с нескрываемым удовольствием сообщила она.
Вот и разгадай этого Баринова![28]
Я оглянулся (не следит ли кто?) и благодарно сжал руку Перепелкиной.
— До этапа будете работать в бухгалтерии, — сказала она. — Я записала в формуляр.
Мне не хотелось уходить из комнаты, освещенной солнцем. Перепелкина, видимо, поняла.
— У вас есть дополнительные жалобы… вопросы? — спросила она, опускаясь на табуретку. — Садитесь.
Я присел на топчан.
— Один вопрос. Можно?
— Пожалуйста.
— Будет ли с вами в сангородке моя бывшая начальница, Нина Устиновна Череватюк?
— Я этого очень хочу! — оживленно ответила Перепелкина. — Вероятно, да. Она уже попросила Попова, начальника санотдела в Тайшете, перевести ее в Вихоревку. А почему вы интересуетесь?
— Просто так… Череватюк, мне кажется, честный, справедливый и прямой человек. А это, сами понимаете, великая ценность в таких условиях.
Перепелкина подошла к окну. Стоя вполоборота ко мне и как бы рассматривая гонимые ветром клочья туч, она говорила доверительно:
— Вы не ошиблись… Нина Устиновна действительно честная, неподкупная… Абсолютно не терпит лжи и лицемерия! Поэтому нехотя и редко сближается с людьми. Но у нас с нею хорошие, искренние отношения… Фронтовая жизнь была у нее трудная. Да и личная сложилась неважно: разрыв с мужем, одиночество… Нервы никудышные… А вот в операционной она спокойная, собранная, у нее всегда все в идеальном порядке. Я так и зову ее — «верный страж хирургии»… Да, без Нины Устиновны мне будет нелегко…
За окном — голос Гнуса:
— Товарищ доктор! К майору Баринову! Он у начальника…
Я вышел в зону. Небо очистилось от туч и было прошито тонкими солнечными нитями.
Вскоре распространился слух: начальник лагпункта Петров не согласился с результатом комиссовки и вместе с Бариновым и Перепелкиной пересматривает список этапников; вычеркнуто восемь-десять человек. Так это или нет, на кого именно упала карающая длань — держалось в секрете. Знал только нарядчик Дудкин. Но молчал как убитый. Однако по тому, как дернулась у него бровь при встрече со мной в дверях столовой, я понял: оставлен на штрафной. Петров питает особую «симпатию» к литераторам…
Вечером в бараке, чтобы отвлечься от томительной неизвестности, я подключился к кружку «ЧВВ», расположившемуся на двух смежных вагонках. По почину Михаила Берестинского в этом бараке был заведен «Час Веселых Воспоминаний». После ужина, коротая время до отбоя, заключенные собирались в кружок и каждый по очереди вспоминал веселую историю из минувшей жизни. Затея пришлась всем по душе. Берестинский, разумеется, играл в ней первую скрипку: рассказывал о всевозможных приключениях на киносъемках, о курьезах во время спектаклей, о комедийных сценариях и разного рода забавных житейских случаях. Все на сон грядущий смеялись. Быстрее проходила усталость от тяжелого рабочего дня, и сны не были беспокойными…
Сегодня палочка веселой эстафеты попала ко мне. Но только было я принялся за рассказ, как в бараке появился Дудкин.
«Сейчас скажет мне, что остаюсь!» — подумал я.
А он — совсем неожиданное:
— Мотай в клуб, братва! Киношка приехала! «Встреча на Эльбе»!..
«Кинопередвижка?.. — недоумевали мы. — На штрафной?.. ослабление режима. Вот это сюрприз!»
Шумно переговариваясь, пошли в столовую. Там уже рядами расставили скамейки, натянули экран — две простыни. Полно работяг.
Закончился сеанс. Все двинулись по баракам, в зябкую тьму.
Во дворе меня взял под руку Дудкин.
— Не волнуйся. Перепелкина тебя отстояла. Завтра уедешь!
В столовой после ужина нас собралось двенадцать: этап на Вихоревку. Сидели, ждали осмотра вещей. Под потолком еле тлела лампочка, усыпанная мошкой. Пахло кухонным паром. От мешков и бушлатов разило сыромятью. На дворе опять моросил дождь.
Гнус, на счастье, не дежурил. Обыскивать пришел надзиратель Чемоданов: пожилой, с сонными глазами. Прозвали его Тишайшим. Говорили: «У него лень под коленками живет». Войдет, бывало, Тишайший в барак, растянет в зевоте рот, махнет рукой и уйдет. И теперь он медленно, лениво пройдя по столовой, заглянул в раздаточное окошко.
— Шарсеги!.. Котлы моешь? То-то… А пирожки з мясом жаришь?
Хихикнул. Повернулся к нам, громко и сладко зевнул. Потом, придав лицу строгость, крикнул:
— Развя-яжь сидоры!
«Только бы не взял Вериных писем и тетрадку Четверикова!» — в тревоге подумал я.
Тишайший подошел к первому заключенному. Помял мешок.
— Чего тута? Золото?.. Ладно!
Ко второму:
— Чего тута? Бонба?.. Ладно!
К третьему, четвертому, пятому… Надоело. Махнул рукой.
У меня отлегло от сердца.
— Выходь! Стройсь!
У ворот вахты ждали конвой, собаки. Сверху — мокро, под ногами — мокро, кругом — тьма.
Потопали…
В ботинках хлюпало, ноги скользили по грязи. Мешок оттягивал спину. Собаки непрерывно лаяли. Через каждые два километра конвоиры останавливали нас, запускали ракеты. Они рассыпались во тьме белыми огнями, слепили. Нас пересчитывали, и мы снова тащились по размытой таежной дороге. Спотыкались. Падали.
Перед самым полустанком старший конвоя скомандовал:
— Сесть!.. Вста-ать!.. Сесть!.. Вста-ать!
Раз пять мы садились в грязь, поднимались. Садились, поднимались. Гимнастика для полуживых людей…
Приползли к месту сплошь покрытые грязью. Нам разрешили разжечь костер. Дышали дымом. Молили всех богов: скорее бы поезд!
И он вынырнул из-за поворота с гулом, лязгом. Санитарный вагон был в конце состава. Старший крикнул.
— За мной — бе-е-его-ом!
И побежал к хвосту поезда.
Мы ринулись вслед. Куда только пропала усталость!..
Солдаты и собаки — за нами. Крики, лай, шипение паровоза…
Дверь вагона оказалась закрытой. Конвоир забарабанил кулаками.
— Эй! Примай двенадцать!
Дверь приоткрылась. В щели — голова.
— Некуды.
— У меня наряд! Примай без разговору!
— Иди ты…
Голова исчезла. Щель — тоже. Поезд дернулся.
Старший конвоя так зычно выругался, что перекрыл стук колес.
Погнали нас, грешных, назад, на штрафную. Пошел снег с дождем. Еще гуще стала темень, еще жиже грязь, еще тяжелее мешок за спиной. Конвоиры ругались реже. Собаки уже не лаяли, скулили.