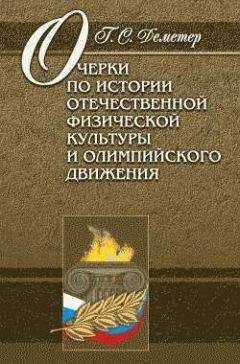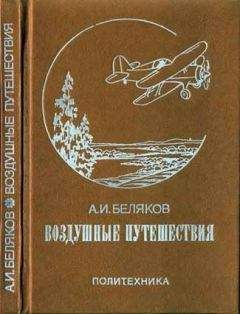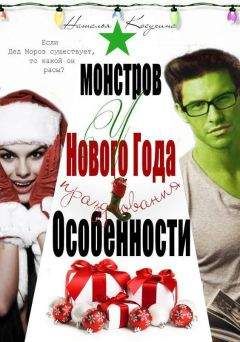Очерки Фонтанки. Из истории петербургской культуры - Айзенштадт Владимир Борисович
«Опыт оказался очень удовлетворительным, – продолжает Глинка, – но вместо того, чтобы сообразить прежде всего целое и сделать план и ход пьесы, я сейчас принялся за каватины Людмилы и Гориславы, вовсе не заботясь о драматическом движении и ходе пьесы, полагая, что все это можно было уладить впоследствии» [с. 88].
Но… все оказалось не так просто. В музыкальную ткань ложились разнохарактерные мелодии: слышанные во время поездки на Кавказ, на минеральные воды, песня финна, записанная им при поездке на Иматру. «У Штерича, – читаем в «Записках», – я слышал персидскую песню, петую секретарем министра иностранных дел Хозрева-Мирзы. Этот мотив послужил мне для хора „Ложится в поле мрак ночной“ в опере „Руслан и Людмила“».
«Гайвазовский [имеется в виду художник Иван Константинович Айвазовский], – пишет он в другом месте „Записок“, – сообщил мне три татарских напева; впоследствии два из них я употребил для лезгинки, а третий для andante сцены Ратмира».
Это был традиционно: оперы тогда строились с опорой на отдельные номера. Музыкальное же видение вело Глинку дальше, в единое музыкальное полотно, в симфонию для оркестра, вокала и сценического действия. А вот подход его оставался традиционным.

И. Е. Репин. Глинка во время работы над оперой «Руслан и Людмила»
Премьера «Руслана и Людмилы» состоялась в Санкт-Петербургском Большом театре 27 ноября 1842 года. Опера, хотя и не сразу, приобрела громадный успех, о чем свидетельствует небывалое для того времени количество представлений: 32 в течение первого сезона. Много теплых слов в адрес оперы было сказано и в периодической печати (в частности, в статьях В. Ф. Одоевского). Но первые представления были приняты довольно холодно: уж слишком новой была музыка.
Анонимный рецензент писал в газете «Русский инвалид»: «Одни находят в опере г. Глинки много таких мест, которые доставят автору ее бессмертие через сто лет; другие, не откладывая дела в долгий ящик, возлагают на автора „Руслана и Людмилы“ венок бессмертия теперь же; третьи безусловно называют оперу неудачной…» [185].
«Руслан и Людмила» оказалась первой во всей мировой оперной литературе эпической, то есть повествовательной, оперой. Повествовательная ее драматургия с медленным, величавым развитием действия, с музыкальными портретами героев, привела в недоумение не только простую публику, но и знатоков. Ее необычное строение поражало слушателей, казалось странным, неудачным.
Только спустя десятилетия это стало понятным. А тогда наличие проблем в своей новой опере Глинка почувствовал уже при ее первых пробах. Он писал в «Записках»: «оказалось, что многие №№ оперы нужно было сократить», – и давал целый перечень видимых им сокращений [с. 106].
«Бедный Глинка, – писал В. Ф. Одоевский, – сам беспощадно вырезывал прелестнейшие страницы… А между тем от этих огромных вырезок выходы марионеток (то есть солистов, исполнявших отдельные номера, не вытекавших из развития действия. – Прим. авт.) делались еще выпуклее» [186].
Статья Одоевского носила название «Записки для моего праправнука» и была им опубликована через год после премьеры, в 1843 году, в «Отечественных записках». Одоевский один, пожалуй, понимал, что современникам очень трудно понять новую логику оперной архитектуры Глинки. «Руслан и Людмила» оказалась прорывом в новую область оперного искусства, и сам автор еще не отчетливо сознавал, что именно он создал. По замечательной мысли героя фильма Авербаха «Монолог», высказанной уже в наше время, в искусстве, в науке есть художники, ученые – гении, которые пробивают брешь в стене, а следующие за ними, тоже прекрасные художники и ученые, но не гении, расширяют эту брешь, делая замечательные открытия и создавая дивные произведения.
Глинка явно принадлежал к первым, но сами такие люди редко осознают это. Он чувствовал, что в опере его что-то не так, но, находясь в плену традиций, искал причину не там, где она была. Он не понимал, что происходит с его новым детищем и воспринимал все очень болезненно.
Со слов композитора Александра Серова известно, что однажды Глинка так прямо и сказал ему, «что тут долго рассуждать: как театральная пьеса, как опера, наконец, – это произведение не удалось вовсе. Но если б кто, полагаясь на такую откровенность, стал бы при самом Глинке развивать всю картину недостатков в „Руслане“, то сейчас бы встретил в Глинке сильнейшее противоречие» [187].
«Сокращения я предоставил графу Виельгорскому», – писал Глинка в своих «Записках». И замечательный музыкант и поклонник его таланта Михаил Юрьевич Виельгорский взялся за эту страшную и этически неблагодарную задачу.
Между Глинкой и Михаилом Виельгорским, который по просьбе самого же Глинки взялся за корректировку музыкального текста новой оперы словно «черная кошка пробежала», хотя они встречались и в «послеруслановское» время. «Он связался, – писал, со слов Виельгорского, в своих „Воспоминаниях о Глинке“ известный в свое время русский композитор, теоретик музыки и музыкальный писатель Юрий Карлович Арнольд, – с шайкой сумасбродных жуиров, которые удерживают его от посещения хорошего общества. Там дошли даже до того, что внушили ему несчастную идею, будто я думаю пакостить ему, потому что я сказал, что последнее его творение „Руслан и Людмила“, хотя красивое и обворожительное с абсолютно музыкальной стороны, все-таки есть неудачная опера» [188].
Однако на известие о смерти Виельгорского Глинка написал в Москву: «Граф М. Ю. принадлежал к разряду тех немногих людей, которым, кажется, никогда умирать не следовало. Наши мелкие недоразумения и вспоминать не хочу, а помню только его дружбу и доброжелательство ко мне».
О «шайке сумасбродных жуиров» (так называемой «кукольниковской братии») мы еще поговорим позже. Но удивительно то, что даже Виельгорский не разглядел сути того, что создал Глинка.
Только лет двадцать спустя эстафету Глинки подхватил Рихард Вагнер.
А в феврале 1842 года в Петербург приехал Ференц Лист. «У Одоевского, – вспоминал Глинка, – Лист сыграл с листа несколько номеров „Руслана“ с собственноручной, никому еще не известной моей партитуры, сохранив все ноты, ко всеобщему нашему удивлению» [с. 103].
На одном из концертов Лист предложил публике дать темы для импровизации и сыграл свою фортепианную транскрипцию марша Черномора. А на холостяцкой пирушке, устроенной Глинкой в его честь, он снова сыграл и Марш Черномора, и увертюру, и Персидский хор из «Руслана и Людмилы» [с. 104].
Вместе с Листом, Одоевским и Виельгорским Глинка посетил салон А. О. Смирновой-Россет. Лист, по ее словам, «играл с листа партию оркестра из „Руслана и Людмилы“, после чего Глинка спел ему „Песнь песней“ [ «В крови горит огонь желанья…»]. Я перевела стихи Пушкина, Лист закрыл рояль, говоря: „После этого нельзя ничего слушать, это перл поэзии и музыки“».
А вот что писал Ф. А. Кони: «В воскресенье [18 апреля 1843] давали на Большом театре 33-е представление «Руслана и Людмилы» М. Ю. Глинки…
Лист не проронил ни одной нотки и после последнего действия вышел из театра с лицом, выражавшим изумление и полное удовольствие. Странно: первому европейскому музыканту опера не показалась длинною и скучною. Вот, судите после этого о критиках „Руслана и Людмилы“» [189].
Только в 1904 году, к столетию со дня рождения М. И. Глинки, была предпринята первая попытка сократить количество сделанных ранее в «Руслане и Людмиле» купюр, а впервые целиком эта опера была дана лишь к 150-летию композитора.
Выдающаяся оперная певица Е. И. Збруева, обладательница редчайшего по красоте и мощи голоса (контральто), выступавшая в Париже в 1907 году, рассказывала о том, что Полина Виардо пригласила ее к себе и попросила спеть. После того как артистка исполнила арию Ратмира «И жар и зной», Виардо сказала: «А теперь – „Она мне жизнь, она мне радость“, очень, очень прошу. Пожалуйста, спойте». Так как Збруева не захватила нот, то Виардо предложила проаккомпанировать на память. «И вот старушка, много десятков лет уже не певшая, все же замечательная пианистка (ученица Мейзенберга и Листа), села за рояль и нота в ноту, как по клавиру, проиграла весь аккомпанемент арии „Она мне жизнь, она мне радость“, арию, которую сама Виардо, вероятно, когда-то пела образцово. Я кончила. При мертвой тишине. Виардо осталась сидеть за роялем, а когда подняла голову, у нее на глазах были слезы. Я склонилась к ней и поцеловала у нее руку. Эту минуту моей жизни я никогда не забуду» [190].