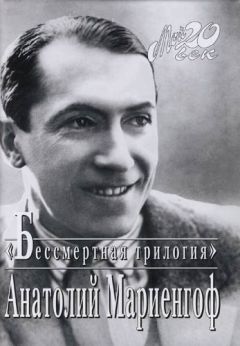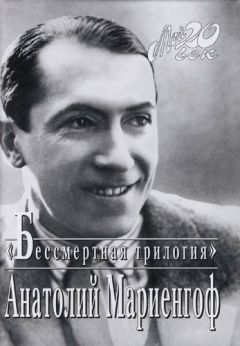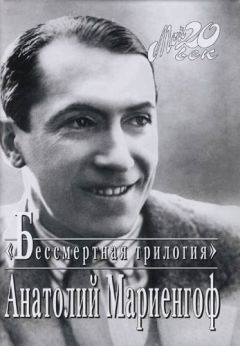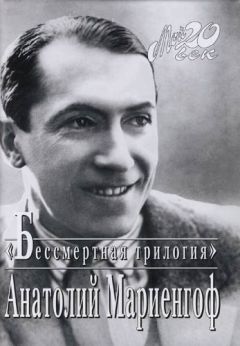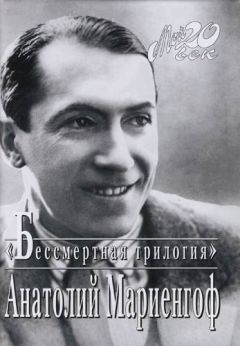Анатолий Мариенгоф - Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги
Право, XVII век не слишком далеко ушел от нашего. Тогда тоже портили пьесы. Кто? Актеры, заказчики, королева, вельможи. Теперь их портят редакторы, завлиты, режиссеры. Только в этом и различие.
Мы с Лидочкой виделись два раза в неделю: в субботу на катке и в воскресенье в театре или на концерте. Но переписывались ежедневно. А почта у нас была своеобразная: это Константин Иванович Гастев. Он преподавал русский язык в институте и во 2-й женской гимназии, где училась Лидочка. Строгий и самоуверенный педагог являлся отменно исполнительным почтальоном — свои письма мы клали под стельку его галоши. Константин Иванович тоже разъезжал на лихаче (но без шелковой попоны), и через десять — пятнадцать минут Лидочкин продолговатый конвертик, чуть-чуть надушенный персидской сиренью, попадал в мои руки.
«Но что будет, — спрашивал я себя, — когда сойдет снег, высохнут тротуары и Константин Иванович снимет свои галоши?… Ведь любить Лидочку Орнацкую я буду не до середины апреля, а вечно!»
У меня соперник. Это вихрастый гимназист Вася Косоворотов, сын сторожа из Вдовьего дома.
Если бы я мог оценить относительно спокойно наши взаимные шансы на победу, то, вероятно, мое отроческое сердце не отбивало бы в груди трагическую барабанную дробь.
Смотрю и смотрю на себя в зеркало: «Да, у меня римский нос. Абсолютно древнеримский!.. Тонкие иронические губы… Благородно-удлиненный профиль… Как вычеканенный на античной монете (отец коллекционировал их). Интересное лицо!»
Я никогда не был повинен в чрезмерной скромности.
«А Васька? Он же типичный губошлеп! Что-то безнадежно курносое. Да еще в коричневых веснушках! Даже зимой. А что будет летом?»
Но у ревности такие же громадные глаза, как у страха. И я говорю себе: «То, что я красивей, это неоспоримо, но в его проклятой физии есть какая-то чертовская милота. Он похож на Митю Лопушка, героя моего детства. Пропади пропадом Васькина круглая морда! Вместе со своей улыбочкой — «душа нараспашку»!»
И стучит ревнивое сердце — утром, днем, вечером. Однако сплю как убитый. Четырнадцать лет!
«А главное, он замечательно катается на коньках, этот чертов сын Васька! Выкручивает на льду какие-то невероятные кренделя. Даже танцует вальс-бостон! Леший с ним! Пусть бы танцевал на своих дрянных снегурочках хоть танец самого дьявола. И раскроил о лед свою башку! Но ужас в том, что Васька всей этой конькобежной премудрости обучает Лидочку. Мою Лидочку! Ой, а теперь они танцуют польку-бабочку!»
Я, конечно, презрительно смотрю на них прищуренными глазами и улыбаюсь печоринской улыбкой. Но коварная девица в крохотной горностаевой шапочке (раскрасневшаяся, сияющая, сверкающая серебряными глазами!) не обращает на мою печоринскую улыбку ни малейшего внимания.
«Оказывается, она — дура! Пустышка! Круглый ноль!.. А я-то ее на «Гамлета» вожу. Нашел кого! Пустышку, которой бы только крутиться на льду в каких-то кретинских танцах».
И я отворачиваюсь в сторону от «дуры», от «пустышки», от «круглого ноля». Однако выдержки у меня маловато: опять не отрываясь гляжу на нее, на него, на них. Гляжу прищуренными глазами. То и дело сдергиваю с руки и вновь нервно натягиваю белую замшевую перчатку. Совсем как Орлов-Чужбинин в «Коварстве и любви» Фридриха Шиллера.
Наш Чернопрудский каток обнесен высокой снежной стеной. В дни, когда играет большой духовой оркестр под управлением Соловейчика, билет стоит двугривенный. Это большие деньги. На них можно купить груду пирожных в булочной Розанова. Откуда взять такую сумму сыну сторожа из Вдовьего дома? И вот, рискуя жизнью, мой соперник всякий раз кубарем скатывается по снежной крутой стене. Раз! два! — и на льду. И уже выписывает свои замысловатые кренделя на допотопных снегурочках.
В одну прекрасную субботу я, терзаемый ревностью, говорю своей даме в крохотной горностаевой шапочке (Боже, как она к ней идет!):
— Взгляните налево, Лидочка.
И показываю ей сына сторожа из Вдовьего дома в то самое мгновение, когда он скатывается на лед. Собственная спина служит ему салазками. Фуражка слетела. Желтые вихры, запорошенные снегом, растопорщились, как шерсть на обозленном коте при встрече с собакой.
— Что это? — растерянно шепчет Лидочка.
— «Заяц»! — отвечаю я с искусственным равнодушием. — Самый обыкновенный чернопрудский «заяц». К счастью, уборщик снега не видел, а то бы ваш кавалер получил метлой по шее.
На Лидочку это производит страшное впечатление. Она надувает губы, задирает носик и прекращает всякое знакомство с моим грозным соперником.
— Нет, — говорит она, — этот чернопрудский «заяц» мне не компания.
Я торжествую победу. И в тот же вечер всю эту историю рассказываю отцу, с которым привык делиться событиями своей жизни. У нас товарищеские отношения.
Отец снимает с носа золотое пенсне, кладет на книгу, закуривает папиросу и, кинув на меня холодный, недружелюбный взгляд, говорит негромко:
— Так. Значит, победитель? Победитель!.. А чем же это ты одолел своего соперника? А? Тем, что у тебя есть двугривенный, чтобы заплатить за билет, а у него нет?… Н-да! Ты у меня, как погляжу, герой. Горжусь тобой, Анатолий. Продолжай в том же духе. И со временем из тебя выйдет порядочный сукин сын.
Отец не боится сильных выражений.
Я стою с пылающими щеками, словно только что меня больно отхлестали по ним.
Отец надевает на свой крупный нос золотое пенсне и берет книгу. Он перечитывает «Братьев Карамазовых».
— Иди, Анатолий. — Таким тоном он разговаривал со мной не больше одного раза в год. — Иди же! Готовь уроки.
Я медленно выхожу из его кабинета.
«Стыд, стыд, где твой румянец?» — спросил бы принц Датский.
Разумеется, в тот вечер я не приготовил уроков. Не до латинского языка мне было.
Прошло пять десятилетий. И, как видите, из моей памяти не изгладились скверные события зимнего нижегородского дня.
Лидочка Орнацкая… Вася Косоворотов… Первая любовь. Первая ревность. Ну?… И первая мерзость, что ли?… Стоп, стоп! Пожалуй, не первая. А история с мячиком, закатившимся под диван?
Нет, друзья мои, я не считаю, что угрызения совести — это всего-навсего устаревшее литературное выражение. Чувства и страсти не так уж быстро выходят из моды. Это ведь не штаны и шляпы.
Нижегородское футбольное поле раскинулось в полуверсте от города, влево от Арзамасского шоссе, обрамленного с обеих сторон тенистыми дедовскими березами. Божии странники с посошками из можжевельника и странницы в белых платках под этими березами хоронились от солнца, от дождя, полудничали, вечерничали и занимались любовью.