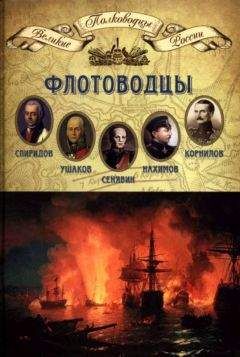Леонид Гроссман - Исповедь одного еврея
В начале 1877 г. Достоевский среди десятков писем, ежедневно получаемых им от читателей «Дневника писателя», получил одно, сильно поразившее его. Оно шло из московской тюрьмы и было подписано незначащей еврейской фамилией.
«Я редко читал что-нибудь умнее Вашего письма ко мне, — отвечал вскоре писатель своему безвестному корреспонденту, — письмо ваше увлекательно хорошо»… И затем на протяжении всего своего ответа Достоевский не перестает отмечать выдающийся ум своего заочного собеседника и выражать свое глубокое уважение к нему. А главное — все его ответное письмо выдержано в том тоне высшей искренности и абсолютной прямоты, который возможен лишь с равным по уму и психологический зоркости. При этом между строк сквозит явное сочувствие к судьбе и личности незнакомого собеседника. «Верьте полной искренности, с которой жму протянутую Вами мне руку», — заключает Достоевский свой ответ безвестному арестанту.
Некоторые заявления здесь невольно поражают. Начитаннейший в мировой литературе писатель, корреспондент знаменитых поэтов и мыслителей, решается заявить, что «редко читал что-нибудь умнее» этой тюремной исповеди какого-то неведомого преступника. Он не ограничивается при этом непосредственным ответом ему, но посвящает поразившему его письму целую главу своего «Дневника писателя», где в обширных отрывках цитирует дошедший до него замечательный человеческий документ и подробнейшим образом отвечает на поставленные ему вопросы и сделанные укоры. Великий писатель считает нужным дать всенародно ответ и морально оправдаться перед бутырским узником, заклейменным обществом, судом и печатью.
Это исключительное внимание Достоевского к одному из своих читателей сразу выделяет его из огромной массы таких же безвестных корреспондентов писателя. Острый интерес к нему автора «Бесов» обязывает и нас пристально всмотреться в забытую фигуру одного странного мечтателя гетто и по возможности ответить на вопрос: кто же автор этого умнейшего письма, столь поразившего Достоевского? О чем он писал знаменитому романисту и почему вообще решил обратиться к нему?
Ответ на все эти вопросы возможен. Корреспондент Достоевского поддается некоторому историческому освещению. Это был выдающийся самородок, ярко одаренная натура с острым и подвижным умом неутомимого искателя, которому выпал на долю тяжкий крест: преодолеть косные ограды многовекового национального сознания, чтоб вырваться на широкие просторы общечеловеческой мысли.
За долгую жизнь он узнал многое: гнет и мрачность нищенствующих кварталов Литвы в эпоху Николая I, изучение Талмуда в ветхих молельнях, жалкую и одуряющую среду «ешиботных бурс» — весь этот фантастический и мучительный уклад, поглотивший целиком его ранние годы.
Полоса безотрадного детства сменяется первыми проблесками отроческого сознания. Наступает сладостная пора тайных приобщений к запретным «берлинским» книгам и жадного знакомства с исканиями человеческой мысли за пределами замкнутого круга талмудической образованности.
Открывается затем возбужденная эпоха его знакомства с русской литературой и пламенного увлечения бурным периодом культурных переоценок. Это горение современными течениями русской мысли приводит, наконец, юного талмудиста к участию в пропаганде новых идей, к жаркой литературной работе, к высокой мечте стать вождем и преобразователем своего народа. В эту эпоху, под влиянием боевого радикализма шестидесятых годов, он вырабатывает свое миросозерцание, сохраняющее навсегда следы его социалистических увлечений — вражды к национализму и глубокого сочувствия к мировым заданиям освобождения всех гонимых и угнетаемых. Таково восхождение этой мысли и совести.
Затем наступает кризис. Рискованная и ложная попытка пойти против условностей окружающего общества и его правового строя с целью углубить свой умственный подвиг и выявить до конца свое призвание терпит неизбежное крушение: суд, лишение прав, тюрьма, кандалы, этап и Сибирь — вот самый мрачный и самый заостренный момент этой судьбы.
Но трагедия неожиданно озаряется и доносит до нас свой отзвук: возникает странная, смелая, обнаженная и вызывающая переписка с Достоевским, который шлет в московскую тюрьму проникновенный ответ на полученную исповедь и одновременно посвящает целую главу «Дневника писателя» жаркому самооправданию перед этим неожиданным обвинителем, лишенными прав по суду и осужденным на арестантские роты.
Следуют затем годы нисхождения, замирания, упадка. Скорбный путь по этапу в Сибирь в наручниках, на общей цепи с другими арестантами, темные годы сибирской ссылки, затем придушенная писательская работа под всевозможными инициалами и псевдонимами, скрывающими опозоренное имя, какие-то новые скитания по глухим местечкам и, наконец, обращение в христианство, которым этот протестант-неудачник словно хочет навсегда отрезать себя от своего прошлого.
Странная, унылая и печальная биография! Она была бы, вероятно, забыта навсегда, если бы на одном из перекрестков этого многострадального пути неожиданно не вырастала перед нами фигура Достоевского; если бы «Преступление и наказание», главы из «Дневника писателя» и сама переписка автора «Бесов» не переплеталась бы таинственными нитями с темной участью этого забытого героя уголовной хроники семидесятых годов.
Эти беседы Достоевского с одним евреем, их заочная встреча и напряженные споры представляют обильный материал для суждений об антисемитизме «великого консерватора», об его сложном отношении к проблеме иудаизма. Они раскрывают при этом всю глубину влияния Достоевского на его современников. Ибо трагический перелом в жизни безвестного еврейского писателя прошел целиком под знаком одного замысла великого русского художника.
Этим предопределилось то преступление, которым была надвое рассечена судьба нашего искателя. Глубоко интеллектуальное, головное, книжное, математически рассчитанное и этически обоснованное, оно не было непосредственным проявлением «злой воли» или внезапного умысла. Можно утверждать, что одна из величайших книг того времени оказала несомненное влияние на рискованный шаг этого непризнанного вождя, и образ Раскольникова стоял перед ним героической и вдохновляющей фигурой, когда он устраивал мысленно судьбу нескольких обойденных. И если судьба Вертера фатально отражалась на его современниках эпидемией самоубийств, образ Раскольникова имел такие же действенные отражения в первом поколении читателей «Преступления и наказания». Один из них, отравленный книгой Достоевского и затем потерпевший крушение в своем опыте, решил обратиться к его автору за высшим и окончательным приговором. Но, ожидая от писателя этого суждения о своем «преступлении», он признает за собой право напомнить Достоевскому об его собственных отступлениях от закона высшей всечеловеческой любви, которую он проповедует на своих страницах.