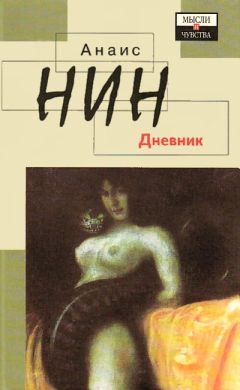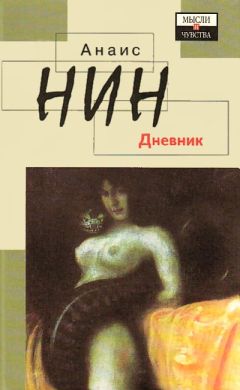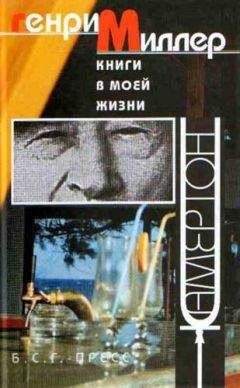Генри Миллер - Эссе
Можно выразиться более фигурально и сказать, что это история яйца, расколотого надвое и упавшего во тьму, чтобы превратиться в новое яйцо, состоящее из ингредиентов прежнего. Тогда дневник напоминает музей, в котором мир, сотворивший это прежнее расколотое яйцо, разъят на части. На первый поверхностный взгляд может показаться, что каждая частица сохранилась на страницах дневника. На самом деле не остается ни крошки; все, составлявшее прежний мир, не просто распалось, но поглощено, переварено и использовано для создания новой сущности, нового яйца, цельного и неделимого. Яйцо нерушимо и образует жизненный составляющий элемент мира, постоянно пребывающего в процессе развития. Оно принадлежит не миру личности, но миру космическому. Само по себе оно имеет очень точные пределы, подобно атому или молекуле. Однако, вступая в отношения с другими подобными сущностями, оно формирует или помогает формировать вселенную, которая воистину безгранична. Оно живет самопроизвольной жизнью и обладает подлинной свободой, поскольку жизнь эта осуществляется в соответствии с самыми непоколебимыми законами. Весь процесс протекает, по-видимому, в том единении с природой, о котором говорят поэты. Но единение достигается иносказательным образом, через духовную смерть. Это такой же вид преображения, как тот, о котором рассказывают мифы; он делает понятным для нас выражение «гений места». Этот гений, или дух, вступая в обладание местом, настолько отождествляет себя с ним, что природное и божественное сливаются.
Сходным образом человеческие души вступают во владение Землей. Только поняв то, что многим из нас представляется сверхъестественным, мы можем относиться по крайней мере без содрогания к смерти миллионов молодых мужчин. Для нас существенно не только различие между утратой близкого человека и смертью постороннего, но существенна также, и даже в большей степени, разница между утратой близкого и уходом великой личности — Христа, Будды или Мухаммеда. О них мы говорим, что вполне естественно, как если бы они вообще не умирали, как если бы они реально все еще были с нами. Для нас их духовная власть над миром столь велика, что даже смерть не в силах ее уничтожить. Их разум поистине проник в мир и одушевил его. И только это одушевление придает смысл нашему земному бытию. Но все эти великие люди сначала умерли в духе. Все они сначала отвергли мир. И это самое главное в них.
В более поздних томах дневника мы обнаруживаем появление названий. К примеру, следующие (я перечисляю их в хронологическом порядке): «Окончательное исчезновение демона», «Смерть и разрушение», «Торжество белой магии», «Рождение юмора во чреве кита», «Игра в Бога», «Огонь», «Audace», «Vive la dynamite»[6], «Бог, который смеется». Использование заглавий с целью обозначить общий смысл тома — это, по сути, указание на постепенный исход из лабиринта. Это значит, что сам дневник подвергся коренной трансформации. Он уже не просто ускользающая панорама впечатлений, но объединение опыта в небольшие пучки волокон и мускулов для создания нового тела. Новое существо бесспорно родилось и движется вверх по направлению к свету повседневного мира. В предыдущих томах перед нами было описание борьбы за проникновение в святая святых собственного «я»; это изображение некоего мрачного мира, в котором в результате запутанного расследования очертания людей, вещей и событий становятся все более и более туманными. Но чем дальше мы внедряемся во тьму и путаницу, тем интенсивнее становится освещение. Вся личность как бы превращается в жадный взгляд, безжалостно обращенный на самое себя. Наконец наступает момент, когда личность, неотрывно смотревшая в зеркало, со слепящей ясностью замечает, что зеркало исчезло и образ возвращается в тело, от которого был отделен. Именно в этой точке восстанавливается нормальное зрение и та, что умерла, возрождается для мира живых. Именно теперь сбывается пророчество, записанное за двадцать лет до того: «Un de ces jours je pourrais dire: mon journal, je suis arriveé au fond!»[7]
Если в ранних томах дневника Анаис была сосредоточена на печали, разочаровании, на том, что она de trop[8], то теперь в нем звучит интонация радости и полноты жизни. Огонь, дерзание, динамит, смех — уже самый выбор слов указывает на изменившиеся обстоятельства. Мир предстает перед ней, как банкетный стол, как объект наслаждения. Но аппетит, казалось бы, ненасытный, находится под контролем. Прежнее навязчивое желание проглотить все, что на виду, чтобы потом сохранить это в личном саркофаге, миновало. Теперь она ест только то, что ее питает. Некогда всеядный пищеварительный тракт, огромный кит, с которым она себя отождествляла, сменился другими органами с другими функциями. Преувеличенное сочувствие к другим, преследовавшее ее на каждом шагу, ослабевает. Рождение чувства юмора означает достижение объективности, доступной лишь тому, кто реализовал себя. Это не безразличие, но терпимость. Широта взглядов приносит с собой новый тип сочувствия и сострадания, свободный, а не вынужденный. Меняется самый ритм дневника. В нем теперь появляются перерывы, промежутки полного молчания, во время которых замедляется действие некогда измученного огромного пищеварительного аппарата, давая возможность развиваться дополнительным органам. Кажется, закрыты и глаза, удовлетворенные тем, что позволили телу ощущать окружающий мир и не надо пронизывать его уничтожающим взглядом. Это уже не мир только белого и черного, добра и зла, гармонии и дисгармонии; нет, он превратился наконец в оркестр с бесчисленным количеством инструментов, способных воспроизвести любой тон и оттенок тона, оркестр, в котором даже самые кричащие диссонансы разрешаются богатой смысловой выразительностью. Это первичный поэтический мир того, Что Есть. Расследование позади, судебный процесс и пытка закончены. Достигнуто состояние очищения. Это подлинно католический мир, о котором католики ничего не знают. Мир вечный и неизменный, и его никогда не находят те, кто его ищет. Потому что большинство из нас стоит перед миром как перед зеркалом; мы не в состоянии увидеть свою подлинную суть, так как не оказываемся перед зеркалом случайно, врасплох, неожиданно. Мы взираем на себя, точно актеры, но спектакль, для которого мы репетируем, никогда не поставят на сцене. Чтобы увидеть настоящий спектакль, чтобы в конце концов принять в нем участие, должно умереть перед зеркалом в ослепляющем свете осознания. Мы должны не только сорвать с себя маску и театральный костюм, но и избавиться от мяса и костей, скрывающих тайное «я». Такое мы можем совершить лишь при озарении, добровольно предавшись смерти. Когда наступает этот момент, мы, воображая, что сидим во чреве кита и обречены на небытие, внезапно обнаруживаем, что кит — всего лишь проекция нашей собственной неполноценности. Кит остается, но превращается в обширный мир, со звездами и сменой времен года, с банкетами и фестивалями, со всем тем, что так чудесно видеть и ощущать, с бытием, которое больше уже не кит, но нечто не имеющее названия, потому что это нечто и внутри, и вне нас. Мы можем, если нам захочется, съесть кита — мало-помалу, по частям поглощать его целую вечность. Неважно, сколько уже проглочено, ведь кита всегда будет оставаться больше, чем человека, так как то, что человек усвоит от кита, вернется к киту в той или иной форме. Кит постоянно меняется, как меняется и сам человек. Нет ничего, кроме человека и кита, и человек находится внутри кита и владеет китом. Таким образом, в тех водах, где обитает кит, обитает и человек, но всегда как внутренний обитатель этого кита. Времена года меняются, китовые времена, воздействию их подвержен весь организм кита. На человека они тоже действуют — как на внутреннего обитателя кита. Но кит не умирает, не умирает и человек в его чреве, потому что они вместе установили то, что бессмертно, — свою взаимосвязь. Именно этим и за счет этого они живут, а не благодаря воде, смене времен года, тому, что проглочено и что проходит мимо. В этом прохождении по зазеркалью присутствует бесконечность, о которой не может дать ни малейшего представления бесконечность образов. Человек живет внутри духа преображения, а не в действии. Таким образом легенда о ките становится прославленной книгой преображений, предназначенной для исцеления болящих мира. Каждый, кто проникнет во чрево кита и займется там собственным воскрешением, вызовет чудесное преображение мира, который, хоть это и мир человеческий, тем не менее безграничен. Весь процесс — это непостижимая картина драматического символизма: тот, кто сидит наедине со своей обреченностью, внезапно пробуждается и живет и простой декларацией — актом заявления о том, что он жив, — оживляет целый мир и бесконечно меняет его облик. Поднимаясь со своего места во чреве кита, он автоматически включает оркестровую музыку, которая заставляет каждого живого обитателя вселенной петь и танцевать и двигаться в бесконечности времен к бесконечному возрождению.