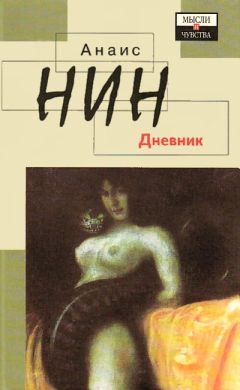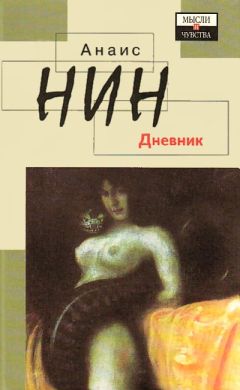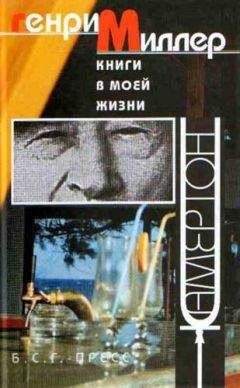Генри Миллер - Эссе
И вот, в самом начале своего дневника девочка ведет себя в точности как художник, при помощи своих выразительных средств приступая к завоеванию мира, отвергнувшего ее. Надеясь поначалу уговорить и привлечь к себе отца изображением своей тоски, расстроенная безуспешностью попыток вновь обрести его, она мало-помалу начинает считать разлуку наказанием за ее собственную неполноценность. Она все более подчеркивает те черты, которые отличали ее с детских лет и навлекали на нее гнев отца. Дневник превращается в исповедь, признание ее неспособности соответствовать тому образцу совершенства, каким был для нее утраченный отец.
С первых же страниц дневника заявляет о себе конфликт между прежним, незрелым существом, глубоко привязанным к отцу, и многообещающей, неведомой личностью, которую она создает. Это борьба между реальным и идеальным, уничтожающая борьба, которую большинство людей бесплодно ведет до конца своих дней, не в силах понять ее значение.
Спустя два года после того, как был начат дневник, в нем появляются следующие строки: «Quand aucun bruit ne се fait entendre, quand la nuit a recouvert de son sombre paletot la grande ville dont elle me cache l'éclat trompeur, alors il me semble entendre une voix mystérieuse qui me parle; je suppose qu’elle vient de moi-même car elle pense comme moi… II me semble que je cherche quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quand mon esprit libre dégage des griffes puissantes de ce mortel ennemi, le Monde, il me semble que je trouve ce que je voulais. Serait-ce l’oubli? le silence? Je ne sais, mais cette meme voix, quand je crois etre seule, me parle. Je ne puis comprendre ce qu’elle dit maisje me dis que Ton ne peutjamais être seule et oubliée dans le monde. Car je nomme cette voix: Mon Génie: mauvais ou bon, je ne puis savoir…»[2].
Еще более поражает место в этом же томе, начинающееся словами: «Dans та vie terrestre rien n’est changé…»[3]. Перечисляя далее мелкие события, которыми наполнена эта ее земная жизнь, Анаис добавляет:
«Dans la vie queje mene dans l’infini cela est different. Là, tout est bonheur et douceur, car c’est un réve. Là, il n’y a pas d’école aux sombres classes, mais il ya Dieu. Là, il n’y a pas de chaise vide dans la famille, qui est toujours au complet. Là, il n’y a pas de bruit, mais de la solitude qui donne la paix. Là, il n’y a pas d’inquiétude pour l’avenir, car c’est un autre rêve. Là, il n’y a pas de larmes, car c’est un sourire. Voilà l’infini où je vis, carje vis deux fois. Qand je mourrai sur la terre, il arrivera, comme il arrive a deux lumièrs allumées à la fois, quand l’une s’éteint l’autre rallume, et celà avec plus de force. Je m’éteindrai sur la terre, maisje me rallumerai dans rinfini…»[4].
Порой она не без иронии называет себя «ипе etoilique» — «одержимой звездами»; это слово она придумала сама, почему бы и нет, если, как она говорит, существует слово «lunatique», то есть «лунатик, одержимый луной»? «Сегодня, — пишет она, — я очень бледно описала lepays de merveilles où топ esprit était. Je volais dans ce pays lointain où rien n’est impossible. Hier je suis revenue, à la réalité, à la tristesse. II me semble que je tombais d’une grande splendeur à une triste misère»[5].
Невольно вспоминаешь манифесты сюрреалистов с их неутолимой жаждой чудесного и фразу Бретона{5}, столь значимую для мечтателя, визионера: «Мы вынуждены вести себя так, словно и в самом деле находимся в этом мире!» Казалось бы, нелепо сопоставлять высказывания сюрреалистов с тем, что пишет тринадцатилетний ребенок, хотя между тем и другим есть много общего, но есть и различие, которое даже более важно. Стремление к чудесному в основе своей есть не что иное, как безошибочный инстинкт поэтической речи, проявлявший себя во все эпохи, во всех обстоятельствах жизни, во всех формах выражения. Но это чудесное стремление к чудесному, если оно не осознано, может действовать как разрушительная сила, превратиться в орудие зла, уничтожающее личность в тенетах Абсолюта. Сделаться столь же негативной и деструктивной силой, как и страстное стремление к Богу. Когда я говорил раньше, что ребенок принялся за свой великий труд как художник, я пытался подчеркнуть тот факт, что, подобно художнику, этот ребенок ставил перед собой цель завоевать мир. В процессе превращения себя в человека, достойного вновь встретиться со своим отцом (потому что для нее мир воплотился в Отце), Анаис невольно стала художником, то есть личностью самодостаточной, которая больше не нуждается в отце. Когда она встречается с ним вновь почти через двадцать лет, Анаис представляет собой вполне сложившегося человека, создание, смоделированное по собственному подобию. Встреча помогает ей понять, что она освободилась от зависимости; более того, к собственному изумлению и смятению, она также понимает, что более не нуждается в том, кого добивалась. Значение ее героической борьбы с самой собой теперь проявляется символически. Того, что осталось позади, что подавляло и мучило ее, владело ею, можно сказать, больше не существует. Она уже не объект обладания и вольна наконец жить собственной жизнью.
Удивительная вещь, пронизывающая весь дневник, — это интуитивное осознание символической природы ее роли. Именно оно освещает ярким светом самые тривиальные замечания, самые тривиальные случаи, которые описывает Анаис; все насыщено мыслями и значениями, которые становятся все более ясными по мере того, как продвигается исповедь. Равным образом, нет ничего хаотичного в самом дневнике, хотя на первый взгляд он может произвести подобное впечатление. Пятьдесят томов битком набиты людьми, событиями, путешествиями, прочитанными и прокомментированными книгами, мечтами, метафизическими размышлениями, драмами, которыми окружена Анаис, ее повседневной работой, ее заботами о благе других людей, короче говоря, тысячью и одной вещью, из которых состоит ее жизнь. Это гигантское карнавальное шествие времени, терпеливо и просто изображенное той, что считала себя ничем, той, что почти полностью растворила себя в усилиях достичь верного понимания жизни. Именно в этом отношении человеческий документ соперничает с произведением искусства, а в такое время, как наше, заменяет его. Хотя в глубоком смысле это такое произведение искусства, которое никогда не будет завершено — потому что художник, способный завершить его, никогда не родится. Здесь мы имеем дело не с законченным в смысловом и техническом отношении произведением (сегодня подобное произведение больше чем когда-либо кажется нам пустым и иллюзорным), но с неоконченной симфонией, достигающей совершенства благодаря тому, что каждая ее тема беременна душевной борьбой. Конфликт с миром происходит внутри. Для замысла художника не имеет особого значения, будет ли его мир размером с булавочную головку или неизмеримой вселенной. Но мир там непременно должен быть! И мир этот, реальный или воображаемый, может быть создан только из отчаяния и страданий. Для художника нет иного мира. Даже если он непознаваем, этот мир, созданный из печали и потерь, он правдив и жизнен, и неизбежно отчуждает «другой» мир, в котором живут и умирают простые смертные. Он и есть тот мир, где ведет свое существование художник, и в откровениях его бессмертного «я» искусство черпает свою опору. Если это однажды понято, уже не может быть речи о монотонности или усталости, о хаосе или бесполезности. Мы движемся среди бескрайних горизонтов в бесконечном благоговейном трепете и смирении. Мы попадаем вместе с автором в неизведанные миры и разделяем с ним всю боль, красоту, ужас и вдохновение, которые влечет за собой познание.