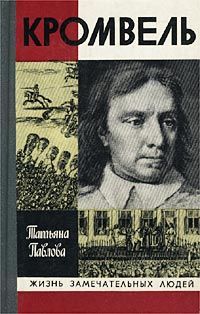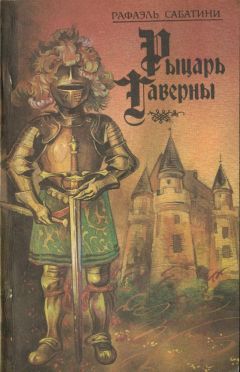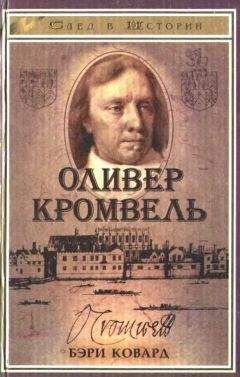Микаэл Таривердиев - Я просто живу
Я помню только два случая, когда какая-то политическая ситуация обсуждалась в доме. Я случайно слышал этот разговор. На партийном собрании в статуправлении, где работала мама, кто-то из «партайгеноссе» заявил, что моя мать носит шелковые чулки, что неплохо бы вспомнить, из какой она семьи, совсем не пролетарской, а заслуги ее во время революции еще требуют доказательств. Казалось бы, смехотворное обвинение. Но в те годы ничего смешного в этом не было. Обсуждение грозило исключением из партии, а исключение из партии автоматически влекло за собой арест. Это ставило семью в положение родственников «врага народа». Так что было не до смеха. Помню, как шепотом на кухне обсуждался вопрос: «Каяться или нет?» Мама говорила, что каяться ей не в чем. На том и разошлись. Беду пронесло. Но она все-таки продолжала ходить в шелковых чулках.
Второй разговор, тоже случайно подслушанный мною на кухне, — о том, что Серго Орджоникидзе несколько лет назад умер не от инфаркта, а застрелился. Я неловко повернулся, родители, увидев меня, поняли, что я все слышал. До сих пор я помню выражение ужаса на лице моей мамы. Она сказала: «Никогда и нигде не говори об этом». Я все же спросил ее: «А папа говорил о дяде Серго, которого он знал?» «Нет-нет, — сказала мама. — Это совсем другой человек, он жил в деревне и случайно выстрелил в себя из ружья. Это совсем другой». Она повела меня спать и все время повторяла: «Совсем другой, совсем другой, но никогда об этом никому не говори». Действительно, странное детство. С одной стороны светловская «Гренада, Гренада моя…», фильмы «Чапаев» и «Истребители», «Травиата» и Шуберт, а с другой — что-то страшное происходило вокруг.
Мне было лет тринадцать, когда мама отправила меня одного в санаторий «Дарьял». Я родился на Кавказе, и мне казалось, что я понимаю красоту этих мест. Но оказавшись в горах, я был потрясен. Выглядываешь из окна, а под тобой проплывают облака… Когда я уехал в Россию, я никак не мог привыкнуть к отсутствию гор на горизонте. Мне их очень не хватало.
Там, в горах, я познакомился с Жорой Геловани, сыном актера Геловани, того самого, который играл роль Сталина в кино. Это был солидный пожилой человек лет двадцати пяти. Он был режиссером Тбилисского оперного театра и к тому же женат на балерине. А познакомились мы так. По радио передавали «Франческу да Римини» Чайковского. Я прослушал увертюру, она мне чрезвычайно понравилась, и я помчался в клуб, где стоял рояль, и стал играть то, что только что услышал. Вошел Жора с вытаращенными глазами.
— Ты что играешь?
— Да вот то, что сейчас передавали по радио.
— Ты в первый раз это слышишь?
— Да.
— А ты не хочешь написать балет?
— Хочу, но не знаю как.
— Я напишу либретто и объясню тебе как.
То, что написал Жора, мне очень не понравилось. Сейчас-то я понимаю, что это был нормальный балетный сценарий. Кто когда вошел, кто когда вышел, сколько минут длится вступление, сколько секунд рассвет и т. д. Но мне-то казалось, что это должно быть вдохновенно, без руля и без ветрил. Мы долго спорили, Жора меня убеждал, что именно так пишутся балеты, а я все не верил. Но наконец он меня убедил, и на свет появились два одноактных балета — «Допрос» и «На берегу». Написал я их довольно быстро. Это был первый мой заказ, и я был невероятно горд собой. Тем более что исполнялись балеты на сцене Тбилисского оперного театра силами хореографического училища. Тогда в училище, да и в театре работал Вахтанг Чабукиани, так что это была сильная балетная труппа.
Конечно, сам я партитуру осилить еще не мог. Мне помогал сделать ее концертмейстер оркестра. Но клавир был безукоризненный. Ощущение было фантастическое! Моя музыка звучит в оркестре! Поставили балеты Геловани и Мансур Камалетдинов. Я помню это как смутное сияние и полет души. Не помню даже, как танцевали — плохо или хорошо. Но шло это на сцене театра каждое воскресенье в течение всего сезона сорок шестого — сорок седьмого годов.
В доме отнеслись к моему успеху спокойно. В школе я скрывал, правда недолго — до отзывов в прессе. Они-то мне все и испортили. Кажется, в газете «Заря Востока» меня назвали «юным композитором». Я был оскорблен. Не молодым, а юным — это было уже слишком. Ведь мне даже гонорар заплатили, а тут такая статья! На гонорар я купил себе шляпу. Для солидности. И сфотографировался в ней.
Нет, пожалуй, я не стал знаменитым. То, что произошло со мной, было тогда в порядке вещей. Это считалось нормой. Это было время талантливых людей. Совсем молодые ребята выступали с оркестром. Тогда еще не было филармонии, и каждый понедельник в театре были симфонические концерты, где собиралась вся публика. Каждый понедельник — новая программа, исполнялись новые сочинения, в том числе и молодых, недавно закончивших консерваторию. Помню премьеры Отара Тактакишвили, Реваза Габичвадзе. Помню молодого Одиссея Димитриади. Культурная атмосфера Тбилиси тех лет была поразительной. Отчасти это было связано с тем, что здесь в эвакуации находились многие талантливые музыканты, но постоянно приезжали и гастролеры. Впервые молодого Рихтера я услышал именно тогда.
На моей памяти были два события, которые сыграли большую роль в сломе духовной жизни. Известное постановление ЦК об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» я, конечно, помнить не мог. Но постановление 1946 года по поводу творчества Анны Ахматовой и Михаила Зощенко зацепилось в моей памяти. Мне было не так много лет, и кто такая Анна Ахматова, я еще не понимал. Но вот Зощенко был одним из моих любимых писателей. Может быть, я не умел тогда ценить ту горечь, которая сквозила в его рассказах, прикрытая, казалось бы, обычной смешливостью, но нравился мне Зощенко чрезвычайно. И я прекрасно помню, как в школе, пряча книгу под партой, я потихоньку хохотал над его рассказами. Ругань, которая обрушилась на писателя, меня удивила. Но будет неправдой сказать, что испугала. Я не понимал значения этих акций. Мне казалось, что просто мне это нравится, а кому-то другому не нравится. И в этом ничего необычного нет. Правда, вдруг из библиотек исчезли книги писателя. Но у меня были свои, поэтому я не особенно печалился. Вероятно, хранить эти книги было чревато. Но я об этом не задумывался, хотя интуитивно понимал, что говорить об этом никому не стоит. Я и не говорил, читал и перечитывал их дома. Так постепенно в сознание входила психология моего времени: лучше помалкивать, но делать то, что тебе интересно. Читать то, что тебе интересно. Слушать то, что тебе близко. Но что-то мешало обсуждать это с моими товарищами. Только позже я стал понимать, какими трагедиями — и людскими, и духовными — оборачивались подобные акции и чем обернулось это для самого Зощенко.