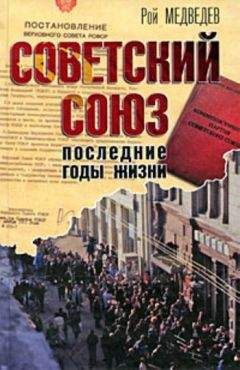Стинг - Разбитая музыка
Мне никогда не доводилось испытывать настоящего религиозного опыта. И я говорю это с некоторым сожалением. Теоретически я, конечно, признавал саму возможность таких переживаний, но никакого потрясающего самые основы моей личности онтологического богоявления у меня никогда не было. Более глубоким натурам, чем я, возможно, и удавалось попасть в иную реальность при помощи молитвы, медитации, поста или переживая состояния, близкие к смерти. Религиозная литература полна такими фантастическими описаниями, и хотя у меня нет никаких оснований сомневаться в их правдивости, я возьму на себя смелость утверждать, что в действительности подобные переживания редки. На каждую святую Терезу, пророка Иезекииля или Уильяма Блейка приходятся миллионы таких, как я, не имеющих опыта непосредственного переживания трансцендентного, опыта соприкосновения с вечной и непостижимой тайной, лежащего в основе любой религии. Но вот снадобье аяхуаска приблизило меня к чему-то внушающему страх, глубокому и бесконечно серьезному.
Я никогда не мог полностью принять идею о переселении душ — слишком уж много я видел людей, которые считали, что в прошлой жизни были Клеопатрами или Карлами Первыми, чтобы всерьез относиться к продолжению жизни «я» после смерти. Однако я верю, что военное сражение как событие, одновременно затрагивающее психику целой массы людей, способно оказывать мощное воздействие на то, что Карл Юнг назвал бы «коллективным бессознательным». Первого июля 1916 года в день начала операции при Сомме еще до полудня было убито пятьдесят тысяч человек — и это только со стороны британцев. Но почему это должно иметь какое-то значение лично для меня? Почему в моих видениях возникла именно эта сцена? Возможно, еще школьником я принял слишком близко к сердцу стихотворения Уилфреда Оуэна или меня наказывают за мои чересчур болезненные фантазии, которые вызывал в моем детском воображении военный мемориал в моем родном городе. Я не знаю ответов на эти вопросы, и они продолжают беспокоить мой ум. Однако видения, являющие собой калейдоскоп цвета, ломаных форм и всевозможных странностей, продолжаются.
Я оказываюсь незримым свидетелем военного суда. Мой спутник стоит, охраняемый двумя солдатами. Его подвергают перекрестному допросу на юридическом жаргоне, который мне, возможно, когда-то и доводилось читать или слышать в кино, но которым я не владею. Мой спутник не проявляет никаких эмоций, когда зачитывают приговор. Я поворачиваю голову и вижу, что мы стоим посреди холодного сумрачного поля, постепенно вырисовывающегося в свете раннего утра. Неровной линией впереди нас выстроились солдаты, готовые к исполнению приговора. Они выглядят сдержанными, некоторые из них рассержены тем, что их вывели утром в это холодное поле, и неуклюже переминаются, как нетерпеливые кони. Я вижу их дыхание в морозном утреннем воздухе, но когда всматриваюсь, то узнаю лица мальчиков из окопа. Они вскидывают винтовки, как только лающая команда прицелиться разносится над пустынным полем, и меня охватывает дрожь от ясного понимания, что сейчас эти мальчики убьют человека, спасшего им жизнь. Этот момент застывает как живая картина, и я являюсь ее свидетелем. Песнь мэтра достигает своего скорбного и страстного завершения. Мои глаза полны слез, и я начинаю плакать. Сначала тихо, а потом уже неудержимо, с судорожными всхлипываниями. Из глаз у меня текут горько-соленые потоки, а все цвета сплавляются в красный. Проходит какое-то время. Я ощущаю себя в утробе матери, а песнь мэтра превращается в голос моего отца. И почему я должен удивляться, что эта всепоглощающая грусть, это зрелище предательства, эта страшная трагедия вызвали во мне воспоминания о моем одиноком, измученном отце и моей матери, моей прекрасной, грустной матери?
Он был бравым солдатом, а она — юной невестой. Потом она пережила эмоциональную катастрофу и умерла от рака груди в возрасте пятидесяти трех лет, а через несколько месяцев за ней последовал и отец. Я — ярко-красная искра в ее глазу, я — колючка в его боку, и всех нас троих связывает какое-то незавершенное дело. Вот почему мы вместе в этом странном гулком помещении, которое и есть моя память. Я, как всегда, окружен призраками.
* * *Моя мать была стройной привлекательной женщиной с длинными светлыми волосами и удивительными голубыми глазами. У нее были красивые ноги, поэтому она носила короткие юбки и туфли на шпильках с заостренными носами. Я помню свою гордость, смешанную со смущением, когда мужчины на улице свистели ей вслед, причем стоило ей обернуться и бросить на них ледяной взгляд, как они немедленно делали вид, что ничего не произошло. У нее был гордый характер, и ей нелегко было угодить. Она ушла из школы в пятнадцать лет и начала работать парикмахером, развив в себе некоторое высокомерие и завышенное чувство собственной исключительности. Люди перешептывались о моей матери, когда она проходила мимо, но она чувствовала себя не такой, как они, да и не хотела на них походить. Ее звали Одри, и до встречи с моим отцом у нее было не много кавалеров. Он стал ее первой любовью.
Первые воспоминания о матери совпадают в моей памяти с первыми музыкальными воспоминаниями. Я помню, как сидел у нее на коленях, когда она играла на пианино, и смотрел, как ступни ее ног на педалях поднимались и падали, создавая некий ритмический контрапункт звучанию танго, которое она так любила играть. Меня завораживало ее умение превращать значки на листах нотной бумаги в ясную гармонию мелодии. Это умение в сочетании с врожденной манерой держать себя создавало вокруг нее опьяняющий ореол обаяния.
Еще я помню мою мать, играющей на пианино в гостиной в доме моих дедушки и бабушки, в то время как отец, обладающий прекрасным тенором, поет печальный вариант вальса Худди Ледбеттера «Goodnight Irene».
Last Saturday night I got married
Me and my wife settled down
Now this Saturday we have parted
I'm taking a trip downtown.[4]
Моему отцу нравились биг-бэнды братьев Дорси и Бенни Гудмена, но именно благодаря моей матери в доме впервые зазвучал рок-н-ролл с пластинок из черного ацетата, делавших 78 оборотов в минуту и украшенных яркими этикетками фирм MGM, RCA и Decca. Ричард Пеннимен, пронзительно вопящий «Tutti Frutti» своим кошачьим голосом, Джерри Ли Льюис, исполняющий «Great balls of fire» в манере безумного проповедника, и Элвис, вкрадчиво поющий «All Shook Up» с интонацией, в которой я позднее начну различать явный сексуальный подтекст. Эти записи повергали меня в неистовую радость. Я катался по полу и подпрыгивал в состоянии, чем-то напоминающем религиозный экстаз. Мама купила также все альбомы Роджерса и Хаммерстайнас записями бродвейских мюзиклов «Оклахома!», «Юг Тихого океана», «Карусель», «Король и я», «Моя прекрасная леди» Лернера и Лоу и «Вестсайдская история» Бернстайна. Я проигрывал эти пластинки до дыр, влюбившись в требующий особой тщательности ритуал извлечения дисков из их поношенных конвертов. Я брал пластинку кончиками пальцев, сдувал пыль, накопившуюся на поверхности пластинки с предыдущего раза и осторожно водружал ее на вертушку проигрывателя. В те времена у меня не было никаких музыкальных предпочтений; я слушал все с восторженной внимательностью неофита. Позднее, когда я стал учиться музыке, я проигрывал пластинки на 33 оборота со скоростью 45 оборотов в минуту, и тогда становилась слышна партия баса, освобожденная от опутывающих ее сетей аранжировки, которая игралась октавой выше. Эти эксперименты помогли мне понять, что любая партия, вне зависимости от ее сложности, может быть расшифрована и выучена, если прослушать ее на скорости, достаточно медленной для того, чтобы по-настоящему расслышать ее. Бесхитростная механика проигрывателя предоставляла такую возможность, и, слыша уютное шуршание иглы проигрывателя прежде, чем зазвучат первые ноты увертюры к «Оклахоме!» или первые аккорды «Singin' in the Rain» Джина Келли, я не менее, чем самой музыкой, бывал заворожен медлительным движением механической лапки по поверхности пластинки.