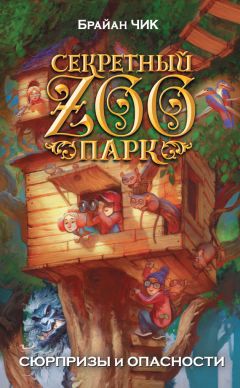Ольга Чайковская - Несравненная Екатерина II. История Великой любви
Оказалось, что и умный отец ее тоже в сомнениях, ему девочка привела другой довод: ее поездка в Россию их ни к чему не обязывает, они с матерью на месте поймут, оставаться им или ехать домой.
Иоганна Елизавета была неважной матерью, однако оказала дочери две крупные услуги: мало занималась ею, тем самым предоставив ей относительную свободу, и убедила девочку, что та дурна собой, что на свою внешность в жизненных успехах она рассчитывать не должна и что этот природный недостаток нужно возмещать «приобретением ума и достоинства». Материнским советом девочка воспользовалась вполне.
Маленькая принцесса крошечного Ангальт-Цербста, конечно, не имела ни малейшего понятия о том, какая жаркая борьба идет между европейскими государями за возможность сделать свою ставленницу женой наследника русского престола. Но уже в пути она почувствовала, что становится немаловажной персоной: ее позвал к себе сам Фридрих II Прусский, более того, пригласил на обед и даже посадил рядом с собой.
Из Берлина они направились в Штеттин, где девочка простилась с отцом, которого любила (и которого ей тоже не суждено было более увидеть), потом двинулись в Митаву, столицу Курляндии, оттуда в Ригу, где их уже встречали пушечной пальбой, приветствовали русские вельможи во главе с С. Нарышкиным; в распоряжении гостей были уже ливрейные лакеи, придворная кухня и экипаж от двора.
И вот обе они, две нищие принцессы, лежат в возках, поставленных на полозья, подбитых изнутри черно-бурыми лисами (девочка не знала, как в этот возок залезть, ей сказали, нужно шагнуть, высоко подняв ногу, и она, вспоминая о том, как влезала, каждый раз принималась хохотать).
В Петербург они тоже въехали при громе пушек и сразу были помещены в Зимний дворец (еще старый, не Растрелли).
Елизавета Петровна вышла к ним «чрезвычайно разодетая: на ней было коричневое платье, расшитое серебром, – вспоминает Екатерина, – и она вся была покрыта бриллиантами, то есть голова, шея, лиф; обер-егермейстер, граф Алексей Григорьевич Разумовский, следовал за нею. Это был один из красивейших мужчин, каких я видела на своем веку. Он нес на золотом блюде знаки ордена Св. Екатерины (этот женский орден был учрежден Петром I. – О. Ч.). Я была немного ближе к двери, чем мать. Императрица возложила на меня орден Св. Екатерины, а потом оказала такую же честь матери и в заключение нас поцеловала». И только началась было светская жизнь Екатерины, как вдруг она сильно заболела – это была та самая болезнь, после которой она выросла и так похудела, что походила на скелет. Елизавета, которая была в отъезде, вернувшись, прямо из кареты прошла в ее комнату и держала девочку на руках все время, пока той пускали кровь (основной метод лечения серьезных болезней в те времена).
Девочка выздоравливала медленно, она лежала с закрытыми глазами и вслушивалась в тот мир, где ей предстояло жить. Чисто женский мир, взволнованный беспрестанными заботами, мелкими ревностями и завистями, крупными бестактностями. Немало забот доставляла ей мать. «Около Пасхи однажды утром, – рассказывает Екатерина, – матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружающие меня, видя, что я отдаю матери скрепя сердце и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали меж собой говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие, и что, вместо желания отобрать эту материю, она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе. Пошли рассказать об этом императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром; это повредило моей матери в глазах императрицы: ее обвиняли в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности». В этом женском мире Екатерина должна была жить еще долгие годы.
Между тем немецкой принцессе предстоял важный шаг – перемена веры, поскольку условием брака с русским великим князем был ее переход в православие. Автор одной из недавних книг о Екатерине А. Каменский полагает, что с этой переменой веры произошло первое предательство в жизни Екатерины. Я не могу с этим согласиться[2].
А. Каменский рассматривает переход будущей Екатерины в православие в связи с ее отношениями с отцом, которого она уважала и любила и который сам был «непоколебимо религиозен». Отправляя дочь в далекую и «неустойчивую» Россию, принц Христиан Август написал для нее наставление, где говорил, что ничто не должно заставить принцессу переменить веру, если она найдет ее не согласной с лютеранской.
Этому строгому и прямому указанию отца А. Каменский противопоставляет уклончивость дочери, которая сперва уверяет его, будто собирается неукоснительно следовать его отцовским советам (они «навечно останутся запечатленными в моем сердце, так же как и семена нашей святой религии останутся в моей душе»). Затем она сообщает, что не находит почти никакой разницы между верами греческой и лютеранской и потому решилась переменить вероисповедание. Эти письма к отцу примечательны тем, пишет А. Каменский, «как постепенно и ловко четырнадцатилетняя девочка приучает его и к перемене ею религии, и к своему новому имени – Екатерина. Можно предположить, – продолжает он, – что переход в православие был совсем не так безболезнен, как может показаться из ее писем, он был сопряжен с преодолением некоего нравственного порога, с ломкой сознания, совершившейся далеко не сразу».
Полагаю, что порог тут был невелик, а болезненной ломки сознания и вовсе не было. Уже ко времени ее приезда в Россию у Ангальт-Цербстской принцессы сложились свои отношения с религией, тому способствовала природная живость ума, не желавшего ничего принимать на веру, та свобода, которая была ей предоставлена, вольный образ жизни ее матери, благодаря чему круг их знакомств был очень широк и разнообразен, самая атмосфера эпохи Просвещения – все это делало девочку вольнодумной и даже, как было замечено окружающими, склонной к ереси.
«Помню, – пишет она в своих воспоминаниях о детстве, – у меня было несколько споров с моим наставником; из-за них я чуть не попробовала плети. Первый спор был из-за того, что я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом столь добродетельные, были осуждены на вечные муки, так как не знали Откровения. Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника: он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость. Священник прибег к способу убеждения, которого придерживался святитель Николай: пожаловался Бабет Кардель (камер-фрау Екатерины. – О. Ч.) и хотел, чтобы меня убедила розга. Бабет Кардель не имела разрешения на такого рода доводы; она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его мнению. Бабет Кардель была реформаткой, а пастор очень убежденным лютеранином». (Вряд ли юный голштинский герцог Ульрих задавался такими проблемами и вел такие горячие религиозные дебаты.)