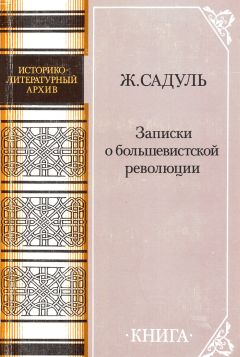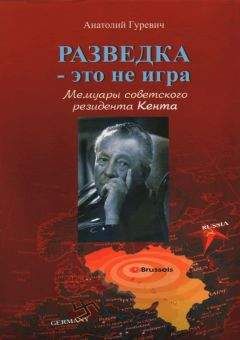Александр Бармин - Соколы Троцкого
Тысячи людей, во всех правительственных учреждениях, стали жертвами безжалостных чисток. Многих из них я близко знал. Было просто невозможно поверить в те обвинения в измене, которые выдвигала пресса против этих преданных сотрудников. Все это выглядело кошмаром.
Разговаривая со своим, похоже, сочувствующим собеседником, я чувствовал облегчение. Но когда я повернул к своему дому, меня охватило чувство тревоги.
– Мой друг, – сказал я себе, – сегодня ты слишком много говорил. Это вряд ли останется без последствий…
2. ЗАПАДНЯ
Спустя несколько дней мой помощник, с которым я так откровенно разговаривал, был срочно вызван в Москву. Мы попрощались в моем кабинете, никак не вспоминая о том памятном для нас разговоре. Но у меня закралась мысль, не попросил ли он сам об этом вызове, чтобы лично доложить о моих настроениях. Вскоре я получил письмо от моего друга из Наркоминдела. Он сообщал, что полпред Кобецкий, которого я замещал, умер в московском госпитале. Я опечатал его стол и запросил, что следует делать с его документами, но ответа от Литвинова не последовало. Затем в один из дней ко мне в кабинет зашел шифровальщик Лукьянов с телеграммой от заместителя Литвинова Потемкина. Он выглядел смущенным.
– Я только что получил личное указание от Потемкина, – сказал он. – Я должен опечатать документы Кобецкого и отправить их в Москву. Что мне делать?..
Это указание должно было направлено только мне как главе дипломатической миссии. Налицо беспрецедентное нарушение установленного порядка, и оно могло быть только сознательным.
– Мы обязаны выполнить указание наркомата, – ответил я.
Было ясно, что Лукьянов, брат которого занимал важный пост в ЦК ВЛКСМ, пользовался у тех, кто следил за нашей лояльностью власти, особым доверием. Потемкин не мог предполагать, что через две недели, по горькой иронии судьбы, высокопоставленный брат Лукьянова будет заключен в тюрьму как «враг народа».
К этому времени, должен сказать, у меня пропало всякое желание работать; контакты в дипкорпусе и в афинском обществе стали невыносимыми. Я не посещал приемы и отказывался от приглашений. Если бы я смог спрятаться где-нибудь в пустыне, я бы сделал это. Ну что я мог ответить, если бы какой-то иностранный дипломат вежливо поинтересовался бы у меня тем, что происходит в России? Конечно, я мог бы дать стандартный ответ:
– Теперь, после разоблачения предателей, Красная Армия сильна как никогда. С таким гением, как Сталин, мой дорогой сэр, нам нечего бояться!
Мне вспоминалось выражение моего друга посла в Париже Валериана Савельевича Довгалевского. «Дипломат отличается от свидетеля в суде, – говорил он, – только одним: он должен говорить правду и ничего, кроме правды, но он никогда не должен говорить всей правды». Правда! Я не мог сказать даже самой малой ее части.
Моя служба за границей в силу моего резкого несогласия с политикой Кремля стала невозможной. Мне надо было уходить. Я написал в Москву письмо с просьбой отозвать меня и приготовился к встрече с судьбой. Даже по московским стандартам против меня не было никаких улик, но неприятностей, конечно, не избежать. Заключение или просто ссылка в какой-нибудь отдаленный регион России мне были обеспечены. Как говорится, не я первый.
Но возникла другая проблема. Могу ли я взять с собой любимую женщину, которая должна стать моей женой?
В Москве свирепствует кампания подозрительности и ненависти в отношении всех иностранцев. С беспощадной тщательностью уничтожалась иностранная колония, эти честные и бескорыстные энтузиасты, которые приехали в Россию, чтобы поставить свои знания на службу социалистическому правительству. Сотни людей были брошены в тюрьмы, казнены или сосланы в Сибирь. Если на меня падет подозрение, то я ничем не смогу помочь ей. Имею ли я право пожертвовать столь дорогим мне человеком, увлечь ее вместе с собой на путь лишений и страданий только потому, что она любила меня и верила мне?
В тот момент она была в Париже на конгрессе архитекторов, и я написал ей о своем предстоящем отъезде в СССР, попросив ее на время отложить мысль о возможности нашего совместного отъезда. Я просил ее не тревожиться, если я какое-то время не буду писать ей. Несмотря на мое молчание, она не должна терять веру в меня. Могут пройти годы, прежде чем мы снова будем вместе.
Я написал письмо и своим сыновьям, которые после смерти моей первой жены жили с моей матерью. Скоро они увидят своего отца. Я писал, что везу им обещанные в подарок велосипеды, а также портфели и альбомы с марками – невероятное сокровище.
Проходили дни, но ответа от М. М. Литвинова не было, и я начал нервничать. Были, однако, и признаки того, что Москва не забывала обо мне. Однажды утром в июле я приехал в миссию раньше обычного и застал одного служащего роящимся в моем столе. Он оказался столь же смущенным, сколько и я.
– Я ищу тут вчерашнюю телеграмму… о визах, – промямлил он.
– Буду вам очень признателен, если вы поищете ее где-нибудь в другом месте, – ответил я.
Еще через несколько дней, спускаясь по лестнице, я заглянул через стеклянную дверь в свой кабинет и увидел, как Лукьянов шарит в моем портфеле. Я резко повернулся и вошел. В руках у него были мои личные документы. Мы молча смотрели друг на друга. Сказать было нечего.
В тот же день я получил письмо от моего сына Бориса, которого я всегда называл старшим потому, что из близнецов он казался мне большим. Борис писал, что они с бабушкой едут на юг – «далеко, далеко… купаться в море». И далее был следующий абзац: «Дорогой папа, нам в школе читали приговор, вынесенный троцкистским шпионам Тухачевскому, Якиру, Корку, Уборевичу и Фельдману… (Все имена мальчик написал правильно, очевидно, его заставили их заучить.) Это не тот ли Фельдман, который жил в нашем доме?»
Мне вспомнилась поэма, написанная двенадцатилетним школьником и опубликованная в московских газетах во время процесса над Зиновьевым. Каждая строфа заканчивалась рефреном:
«Расстреляем всех как бешеных сук!»
Что же подумают мои мальчики, если меня арестуют по какому-нибудь чудовищному фальшивому обвинению? Они поверят официальным сообщениям.
Никто не выступит в мою защиту, и я никогда не смогу оправдаться. И навсегда потеряю своих сыновей. Я подумал, что, только оставаясь за границей, буду иметь шанс сказать им когда-нибудь правду и снова обрести их.
Эти мысли держали меня в состоянии напряжения. Чтобы как-то отвлечься, я в пятницу, 16 июля, договорился поехать на рыбалку с братом моей невесты Джорджем.
В тот же день мне позвонил коммерческий атташе. Мы поговорили о том о сем, а затем он мимоходом сказал: