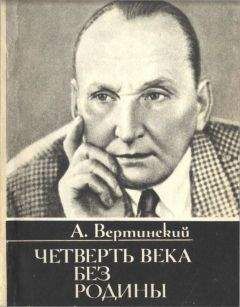Александр Вертинский - Дорогой длинною...
— Пенерджи́! Пенерджи́! — кричал он каким‑то сдавленным голосом, точно подавившись ватой. — Кого ты там рисуешь?
— Своего дядю из Нахичевани!
В самом же деле караим Пенерджи рисовал в это время осла с длинными ушами, странно похожего на Кушнера.
Латынь преподавал некий Волкович, худой, веснушчатый чиновник с рыжими бакенбардами котлеткой. Он был визглив и истеричен, как женщина, и во время уроков доводил себя до припадков, а нас до ужаса.
Таков был состав наших преподавателей. Все это были чиновники, бездушные служаки, педанты и сухари, совершенно не интересовавшиеся ни нами, ни нашим внутренним миром. Если мальчишка учился плохо, вызывали родителей и после двух предупреждений выгоняли из гимназии.
На эти вызовы приходили обычно мамаши. Отцы были заняты службой. Мамаши долго и горько плакали в коридорах, выйдя из инспекторской комнаты, и утирали глаза платками. Что они могли поделать с нами?
А мы росли, как трава, сами по себе. Зубрилы тянулись и старались, выслуживаясь перед учителями, ябедничая и угождая им. Середняки, те, у которых отцы были покруче, кое‑как вытягивали на тройки, переходя из класса в класс, а двоечники или изгонялись, или сидели по два года в одном классе.
Конечно, самыми лучшими товарищами, самыми весёлыми и затейливыми парнями были эти второгодники. Они всегда выручали товарища, оказавшегося у доски, подсказывая ловко и с особым молодечеством. Они острили и паясничали, прикидываясь дурачками, на потеху классу. Они скандалили, выводя из терпения преподавателей. Они уже курили и в уборных, и в классе, и даже на улице. Лихо пили водку где‑то на квартирах товарищей и не без успеха ухаживали за горничными. Все они были неглупые и задористые мальчишки — драчуны и заводилы, которыми мы восхищались и которым тайно подражали. Что же стало с ними потом? Вышли ли они «в люди»? Думаю, что да. Во всяком случае, из всех тех зубрил, которых мне довелось повстречать в жизни, ничего интересного или заметного так и не вышло.
Гордостью и сенсацией нашей гимназии был некий Бузя Гуревич, сын киевского раввина. Это был подлинный вундеркинд. Во всяком случае, такого экземпляра мне никогда больше не приходилось встречать. Ещё будучи в младших классах, он уже писал сочинения для учеников старших классов. Учась в четвёртом классе, выступал на литературных диспутах, поражая всех своей эрудицией. Он участвовал в прениях после лекций академиков, писал стихи, занимался в философских кружках и гремел на «литературных судах» того времени, приводя в восторг теософских дам, мог говорить без умолку в любое время и на любую тему, даже не зная заранее, о чем будет говорить. Им гордились все киевские евреи и вся наша гимназия. Ему пророчили блестящее будущее. Спорить с ним никто не решался, а он был хоть и самодовольный, но все же неплохой парень. К нему в дом всегда можно было заскочить, просто чтобы поесть досыта. Правда, делать это нужно было в отсутствие родителей Бузи, которые не переваривали меня, полагая, что я, вольнодумец и двоечник, оказываю дурное влияние на их сына. Но Бузя храбро таскал из буфета в столовой остатки завтраков и обедов и всегда старался накормить меня. Он даже снабжал меня своими сорочками. А это не шутка. Он был непререкаемым авторитетом среди нашей молодёжи. Не знаю, какую роль он сыграл бы в моей судьбе, если бы я не потерял Бузю из виду в самом разгаре его киевских успехов. За него я был спокоен. Каково же было моё удивление, когда через много лет я встретил его в Париже на кинофабрике «Гомон» в роли скромного сотрудника сценарного отдела!
Так и исчез из моей жизни Бузя, не оставив в ней заметного следа. Двоечники же и второгодники сильно повлияли на мою пылкую натуру.
Как только приходила весна, мы устраивали чудесные «пасовки» (от карточного слова «пас») то на Батыевы горы, то в Голосеевскую пустынь, то в Дарницу. Обычно утром мы встречались в заранее условленном месте и, оставив ранцы и связки с книгами в какой‑нибудь лавочке, шли гулять. Весна ещё только высовывала нос на улицу, а мы уже в распахнутых пальто шли ей навстречу. На Батыевых горах снег едва начинал таять, и большие куски его белели в овражках, остекленевшие и грязные, как куски разбитой тарелки, но сквозь весеннее марево уже пробивались синие и белые головки подснежников, лиловели фиалки, высовывался сиреневый «сон» с серыми пушистыми цветами. Чуть начинала зеленеть рыжеватая прошлогодняя травка…
Мы разводили костёр, жарили на палочках старое украинское сало, курили до тошноты и бегали взапуски, собирая хворост, и пили, пили воздух. Украинский воздух! Воистину это были самые счастливые дни моего детства.
Зимой мы устраивали «пасовки» в Киево-Печерскую лавру. Лавра стояла на отлёте от города, на высоком берегу Днепра. Она занимала большое пространство со своими церквами, службами, кельями, монастырём, помещениями и конторами. С утра до ночи в ней толпился народ. Тысячи богомольцев со всех концов страны заполняли её. Крестьяне из далёких губерний с детьми, узлами и котомками, старики и старухи, нищие калеки, бездомные странники. На специально отведённом для них выгоне за стенами лавры, на высоком обрыве над Днепром, на кучах выгребного мусора, как многострадальные Иовы, сидели эти люди.
Слепые украинские кобзари с сивыми чубами и усами крутили рукоятки своих стонущих жалобно кобз — примитивных инструментов — и голосили, истошными надрывными голосами рассказывая доверчивым бабам невероятные истории из жизни святых и мучеников. Пылкая украинская фантазия плюс необходимость потрясти воображение слушателей (иначе ничего не соберёшь) уводили этих «поэтов» и «религиозных комментаторов» в такие сюжетные дебри, откуда они сами порой не могли уже выбраться. И вдруг неожиданно обрывали свои «арии», что называется, на самом высоком «фермато».
Впрочем, в тексты этих «арий» никто особенно не вслушивался.
Ой, жив соби́ Лазарь…
А я його́ знав,
Була в його сира свитка,
А я и ту украв!..
— бесцеремонно бубнили они себе под нос. Сердобольные украинские «молодицы», с головой укутанные в тёплые платки, заливались слезами и кидали трудовые копейки в деревянные чашки, выставленные для сбора пожертвований. Половина этих слепцов была, конечно, симулянтами.
Страшные, распухшие от волчанки и экземы калеки с вывороченными руками и ногами, нищие, покрытые язвами, безносые гнусящие сифилитики, алкоголики, бродяги, карманники — все копошилось на этом гноище, вопило, пело, стонало, молилось, стараясь обратить на себя внимание. У них были свои законы, своя этика и свои порядки. Лучшие места, поближе к воротам, занимали «премьеры», «первачи». Некоторые из них были далеко не бедны, имели даже собственные дома где‑нибудь на Шулявке или Соломенке. Сидя тут по десять — двадцать лет, они накапливали себе небольшие состояния и обзаводились семьями, а на все это смотрели как на службу. Начинали они обычно с мольбы о помощи: