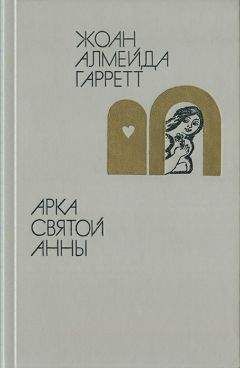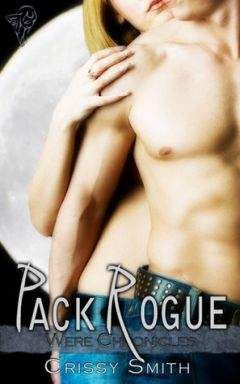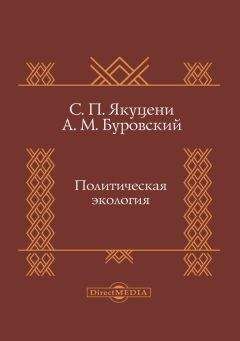Софья Пилявская - Грустная книга
Осень наступила сырая и ветреная, в квартире было холодно, нас подводило еще одно «чудо» — паровое отопление, которое часто бездействовало.
Живя в замкнутом мирке под командованием трех растерянных женщин, мы и не подозревали, какие великие перемены готовятся в мире и свидетелями каких событий мы окажемся.
В магазины, когда они были открыты, и вообще в город никто из наших женщин не ходил. Отец сказал, что из-за сильного польского акцента, не разобравшись, их могут принять за немок, и тогда — беда. Ходила за покупками дворничиха, очевидно, диктуя свои условия за услуги. Даже мы, дети, понимали, как трепетала перед ней мать.
Однажды вечером появился отец — похудевший, какой-то непривычно мятый, с красными глазами. О чем-то строго говорил, взрослые послушно кивали. Нам также непривычно сурово приказал слушаться маму. После этого мы увидели его очень нескоро.
Тут началось нечто непонятное, страшное, но весьма интересное. Даже мы, особенно брат, понимали, что на улице стреляют. Когда брали Зимний и стреляла «Аврора», нас пустила в подвал все та же «благодетельница» — дворничиха.
Очень смутно в памяти мелькают обрывки тех исторических дней. Ничего я, конечно, не понимала: почему кто-то радуется, а кто-то подавлен, растерян и очень сердит. Очевидно, в нашем доме жили и «буржуи», как их тогда называли. Кто-то уезжал, кого-то выселяли. Все это мы с братом наблюдали, стоя у окон.
Иногда мама, тепло одевшись, уходила поздно вечерей. Мы, конечно, поднимали рев, хотя тетя Аделя и пыталась растолковать нам, что это дежурство у дома. А мне слово «дежурство» было непонятно, и от этого становилось еще страшней.
Когда выпал снег и стало морозно, внезапно приехал отец в какой-то странной пролетке, запряженной парой лошадей, с кучером-солдатом. Радости было много. Ведь мы так долго ничего о нем не знали! Побыл он не более часа. Все что-то объяснял маме, давая ей какие-то бумаги. Эти бумаги потом магически действовали на нашу «благодетельницу», которая из суровой и величественной стала ласковой и угодливой, даже со мной и братом. Про бумаги я помню потому, что все время висела на отце, а брат только подходил и прислонялся к нему. Отца это волновало. Став взрослой, я всегда знала, когда он был взволнован, — он снимал и протирал очки куском замши или отдельным носовым платком (отец был очень близорук). Еще тогда я запомнила и очки, и замшу. Уезжая, он обещал в следующий раз взять меня с собой, уж очень я, наверное, ревела.
Зима мне запомнилась холодом в доме и отсутствием вкусного. Мы потихоньку доедали взятое из Сибири вяленое, соленое и «пареное», похожее на столярный клей.
Иногда, после таинственных бесед мамы все с той же «благодетельницей», у нас появлялись картошка и капуста, кажется, все подмороженное.
На улицу нас все еще не пускали, было там как-то сумбурно-шумно, бегали мальчишки с газетами, что-то выкрикивая, маршировали какие-то люди, и не только военные. И ночи были не тихие — часто проезжали машины, иногда стреляли, кто-то кричал.
События происходили и в нашем «каменном гнезде».
Бедная, напуганная всем происходящим наша тетя Аделя мечтала об отъезде в Польшу, наивно думая, что уж там-то, дома, все тихо, а не так, как у этих русских. Каким образом это произошло — не знаю, но старшая (на 18 лет старше) мамина сестра тетя Маня, которая присылала нам деньги в Сибирь, оказалась в Питере. Из более поздних рассказов взрослых я знала, что тетя Маня снимала квартиру в Петербурге и в Париже, а постоянно жила в Варшаве. Вдовела она дважды и каждый раз оставалась единственной наследницей своих богатых мужей. Были у нее какие-то коммерческие дела, и, наверное, приехала она в Питер собирать остатки своего национализированного капитала и, конечно, рассчитывала увидеть маму и всех нас.
Моего брата тетя Маня знала маленьким, до отъезда в Сибирь, а меня и вовсе никогда не видела. Как происходила наша встреча в Петрограде — мне трудно сказать. Помню, что мама, брат и я пришли в нарядную квартиру, где царил страшный беспорядок. Нас встретила полная, как мне тогда казалось, старуха, с очень толстой косой до колен (так она ходила дома). Рядом с ней стояла на немыслимо кривых и коротких лапках маленькая коричневая такса. Я и брат таких собак никогда не видели и смотрели на нее недоуменно, вспоминая нашего великана Цезаря, а такса деликатно обнюхивала нас и тоже, наверное, удивлялась.
Вместе с маминой сестрой Марией Иосифовной и уехали к себе на родину наши добрые тетя Аделя и няня Зося. Помню обильные слезы при расставании, и не зря: больше мы никогда не виделись.
Стало в нашей большой холодной квартире совсем неуютно. Мама часто уходила из дома, ведь на ней теперь лежало все: и добывание скудных продуктов по карточкам, и обмен вещей на крупу, постное масло и керосин (дров для плиты не было, и появилась керосинка). Мы оставались одни в полутемной квартире, и нам было страшно.
Где-то в начале января 1918 года опять приехал отец, на этот раз на «автомобиле», как говорили тогда. В то время должность и служебное положение моего отца были мне, естественно, неизвестны. Только много лет спустя из воспоминаний Анатолия Васильевича Луначарского я узнала, что летом 1917 года — в сложное для большевиков время — отец вошел в городскую думу Петрограда. Вот как писал об этом Луначарский:
«В конце концов Управа была избрана приблизительно пропорционально от всех партий, и мы как для нашей пропаганды, так отчасти даже для хозяйственной и культурной работы в городе приобрели серьезные возможности.
В Управу от нас вошли я в качестве товарища городского головы и товарищи Кобозев и Пилявский в качестве членов управы…»[1]
Отец был худой, печальный и о чем-то долго разговаривал с мамой. Пробыл он у нас дольше обычного, что-то ел и пил чай. Вечером, когда отец собрался уезжать, я устроила скандал, наверное, ревела благим матом, требуя выполнения обещания взять меня с собой. Потом мама мне говорила, что я вела себя неприлично, «не как воспитанный ребенок». Но ведь он обещал!
И вот, одетая в несколько одежек, сижу первый раз в жизни в автомобиле. Он гремит, чихает, но мы едем.
В памяти остались огромный мост, у которого нас остановил, как я поняла гораздо позднее, патруль, матрос в бушлате, перекрещенный пулеметными лентами и с большим пистолетом, солдат с винтовкой и еще какой-то человек в кожаной куртке, тоже с пистолетом. Отец показал им какую-то бумагу, они откозыряли, и мы двинулись дальше.
В дороге нам повстречалась свадьба: карета, запряженная парой лошадей, невеста в фате, веселые вскрики. Свадьба проехала, а вот каких-то людей на нашем пути стаскивали с пролетки и куда-то уводили.