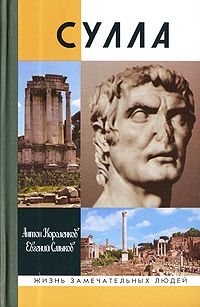Антон Короленков - Сулла
Что касается отношения к этому договору в Риме, то тех, кто одобрял поведение Суллы, было гораздо больше, чем его хулителей.[574] Прошли те времена, когда эллинистические монархи могли мнить себя равными Риму. Рим помнил, как склонился перед откровенной грубостью римского посла Гая Попилия Лената сирийский царь Антиох IV, которому было предложено дать ответ, не выходя из очерченного на земле круга (Ливии. XLV. 12. 5). В Риме видели, как униженно держался вифинский царь Прусий, даже назвавший себя однажды «вольноотпущенником римского народа» (Полибий. XXX. 19. 1–7).[575] Разумеется, к парфянскому царю отношение было такое же, ставшее уже привычным, — как к младшему партнеру; иначе и не мог вести себя римский магистрат, не умаляя «достоинства римского народа». Что касается тех, кто осуждал поведение Суллы, то они, несомненно, делали это не из принципиальных соображений, а из личной вражды. Как известно, римские политики (да и не только римские) имели обыкновение обвинять своих противников во всех смертных грехах, не заботясь о том, справедливо обвинение или нет. Объектом таких обвинений и стал Сулла, а Плутарх донес до нас память о них.
На Востоке случился еще один эпизод. Согласно Плутарху, среди спутников Оробаза был некий халдей, «который, посмотрев в лицо Сулле и познакомившись с движениями его духа и тела — не мельком, но, изучив их природу согласно с правилами своей науки, — сказал, что человек этот непременно достигнет самого высокого положения, да и сейчас приходится удивляться, как он терпит над собой чьюто власть» (Сулла. 5. 10–11). Видимо, эта история была достаточно широко известна. Во всяком случае, Беллей Патеркул, довольно скупой на подробности, тоже рассказывает, что во время встречи с парфянами[576]«некие маги определили по родимым пятнам на его теле, что его будущая жизнь и посмертная память достойны богов» (П. 24. 3). Источником рассказа об этом пророчестве являются, конечно, мемуары самого Суллы. Вероятно, какоето предсказание действительно было. Он интерпретировал его «в свете доминирующего — можно сказать, почти навязчивого — мнения, которое имел о себе, а именно что он обладает felicitas (счастьем)»,[577] независимо от того, имел ли он такие представления уже ранее или они впервые были внушены ему только сейчас этим безымянным прорицателемхалдеем.
Возвращаясь в Рим, Сулла имел все основания гордиться: в очень трудных условиях он провел блестящую военную кампанию, победоносно решил поставленную перед ним задачу да к тому же еще впервые вступил в контакт с неизвестным дотоле государством! При таких успехах будущее, несомненно, рисовалось ему в радужных тонах.[578] Но этим мечтам суждено было разбиться о прозу жизни. Цицерон рассказывал о себе, что после своей квестуры на Сицилии он, пребывая в уверенности, что Рим полон славою его имени и деяний, спросил у своего приятеля, как оценивают его деятельность на острове. В ответ оратор услышал: «Погодика, Цицерон, а где же ты был в последнее время?» (За Планция. 64; см. также: Плутарх. Цицерон. 6.3). Примерно в таком же положении оказался и Сулла. Вечный город жил своей жизнью, и ему было мало дела до блестящих успехов одного из наместников.
Что же происходило тем временем в Риме?
В 95 году вновь начинаются громкие судебные процессы. Первой их жертвой чуть не стал Квинт Сервилий Цепионмладший. Как уже говорилось, он активно сопротивлялся закону Сатурнина о ценах на хлеб, и теперь ему это припомнили. Его насильственные действия в те горячие дни были расценены как оскорбление величия римского народа, и он был привлечен к ответственности (Риторика для Геренния. I. 17; II 21). Его обвинителем выступал «самый красноречивый из тех, кто жил за стенами нашего города», — Тит Бетуций Бар из Аскула (Цицерон. Брут. 169). Разумеется, patres не могли отдать его на растерзание, хотя его защита и не может похвастаться таким перечнем знатных людей, как защита его отца.[579] Ответ на речь Бетуция для Цепиона составил Луций Элий Стилон, «человек выдающийся, один из достойнейших римских всадников, на редкость начитанный в греческой и латинской литературе». Защитную речь на суде произнес Луций Красе, хотя она оказалась не очень убедительной, будучи «слишком длинна для похвальной речи при защите и коротка для обычной судебной» (Цицерон. Брут. 162; 169; 205–206, 162). Тем не менее Цепион был оправдан всадническим судом, поскольку его дело не затрагивало интересов всадников.
В ответ на это в суде была предпринята контратака, причем обвинение тоже апеллировало к событиям восьмилетней давности и приписывало обвиняемому то же самое преступление, в котором пытались уличить Цепиона. Речь шла о Гае Норбане, который в 103 году вел активную атаку на Цепионастаршего с применением насильственных действий. Теперь ему были вменены в вину насилие и пренебрежение трибунским вето (Цицерон. Об ораторе. П. 107–109, 197–199; Валерий Максим. VIII. 5. 2). Обвинителями выступили молодой Публий Сульпиций[580] и почтенный уже к тому времени Марк Эмилий Скавр (Цицерон. Об ораторе. П. 89; 107–109; 203; Об обязанностях. П. 49; Апулей. Апология. 66; Валерий Максим. VIII. 5. 2). Совершенно неожиданно для лучших граждан в защиту этого, по выражению Цицерона, «мятежного и ни к чему не пригодного гражданина» (Об обязанностях. П. 49) выступил известный оратор Марк Антоний. Это делается понятным, если вспомнить, что Норбан в свое время был квестором Антония и его защита была непреложным долгом последнего («Ведь он, по завету предков, должен быть мне вместо сына», — говорит Антоний в диалоге Цицерона «Об ораторе» (П. 200), даже если и не была ему по сердцу. Во всяком случае, неудача судебного преследования и оправдание Норбана отнюдь не помешали Антонию сохранить добрые отношения с его главным обвинителем, Публием Сульпицием.[581]
Вероятно, можно согласиться с утверждением, что эти процессы показали неэффективность старых методов политической борьбы при помощи судебных обвинений: какой в них оставался смысл, если приговор можно было предвидеть с самого начала? Именно это побудило правящую олигархию вновь заговорить о судебной реформе; непосредственным предлогом здесь послужило знаменитое дело Публия Рутилия Руфа.[582] Началось оно с наместничества в Азии великого понтифика Квинта Муция Сцеволы (консула 95 года), легатом которого был Рутилий.[583] Об этом наместничестве сохранились самые восторженные отзывы примерно такого характера: «Немалой была и блестящая слава Кв. Сцеволы, коллеги Л. Красса по консулату, управлявшего Азией столь безупречно и столь твердо, что сенат своим декретом объявил впредь Сцеволу образцом и нормой исполнения служебных обязанностей для отправляющихся в эту провинцию магистратов» (Валерий Максим. VIII. 15. 6)**. Нелишне добавить, что это «безупречное управление» длилось всего девять месяцев (Цицерон. Письма к Аттику. V. 17. 5), после чего Сцевола отбыл в Рим, оставив дела на попечение Рутилия Руфа. Однако он успел сделать очень многое, издав, в частности, тщательно продуманный эдикт, в котором, среди прочего, гарантировал грекам суд по их собственным законам в тех делах, которые не касаются римлян (Цицерон. Письма к Аттику. VI. 1. 15).